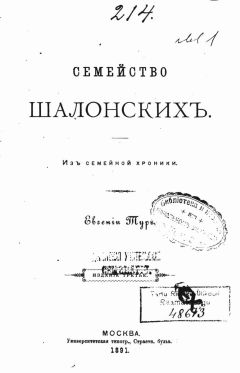Елизавета Салиас-де-Турнемир - Княжна Дубровина
И онъ уходилъ въ кабинетъ и плотно притворялъ двери за собою. Дѣти зачастую держали совѣтъ не лучше ли, ради спокойствія папочки, играть въ другія игры, въ свои козыри, въ мельники или въ любопытные, но Анюта протестовала.
— Я хочу въ разбойники, говорила она рѣшительно; воображаемая опасность возбуждала ее и она бросалась какъ дикая кошечка отъ ловившихъ ее братьевъ и забывъ о папочкѣ кричала что есть силы.
— Такъ играть нельзя, говорилъ Митя, — будетъ. Давайте играть въ свои козыри.
— Не хочу! Не хочу, твердила Анюта настойчиво.
— Препротивное это слово и ты постоянно твердишь его, замѣчала Агаша. — Мало ли чего ты не хочешь?
Но унять Анюту было не легко. Она упорно стояла на своемъ; часто споръ оканчивался ссорой и слезами.
И опять появлялся папочка въ дверяхъ кабинета и опять усовѣщевалъ дѣтей, и на жалобы Анюты непремѣнно выговаривалъ старшимъ.
— Она маленькая, меньшая, говорилъ онъ, — уступите ей. Вы видите она плачетъ, стыдно вамъ. Вы должны всегда уступать ей.
— Папочка, да мы ничего. Вѣдь и Лида маленькая, а не плачетъ, говорилъ Митя.
— Лида дѣло другое, отвѣчалъ Долинскій.
— Отчего же другое? возражали дѣти.
Николай Николаевичъ не зналъ что сказать, такъ какъ не хотѣлъ выдать своей тайной мысли. Онъ не желалъ, чтобы дѣти замѣтили малѣйшую разницу между собой и Анютой, и потому не могъ сказать имъ: уступайте потому что она сиротка. А Анюта, которая почти всегда оставалась въ глазахъ папочки правою, съ каждымъ днемъ дѣлалась требовательнѣе и несноснѣе. Она даже привыкла сама говорить о себѣ: я меньшая и требовала уступокъ. Ссоры сдѣлались чаще, особенно мальчики не хотѣли покоряться Анютѣ, и быть-можетъ они не взлюбили бы ее, еслибы не рѣдкая чувствительность ея сердца, еслибы не ея способность привязываться всею душой. Часто послѣ ссоры она робко подходила къ Митѣ, заглядывала ему въ глаза, цѣловала его и случалось, хотя и рѣдко, просила даже прощенія.
— Не сердись, шептала она ему на ухо, — я люблю тебя, Митя, какъ люблю! Я только такъ.
— Ну то-то такъ, говорилъ онъ и мирился съ ней, помня слова папочки, что онъ долженъ во всемъ уступать ей.
Случалось и иное. Анюта разсердившись уходила въ дѣтскую, но заскучавъ тамъ, возвращалась и заставъ дѣтей играющихъ въ свои козыри или въ любопытные, принимала участіе въ игрѣ, хотя сначала надувшись.
— Анюта пришла, говорилъ Ваня. — Я не совѣтую играть въ любопытные.
— Отчего это? спрашивала Анюта обиженно.
— Оттого, что ты будешь любопытствовать всякій разъ, заберешь къ себѣ всю колоду, останешься съ ней и взвоешь.
— Какое милое выраженіе: взвоешь! говорила Анюта.
— Ну, пожалуста, у насъ въ гимназіи все такъ говорятъ.
— А папочка не любитъ, замѣтила Агаша.
— Ну хорошо, словомъ, Анюта опять… совсѣмъ не знаю какъ сказать чтобъ угодить чопорной Агашѣ, зареветь что ли?
— Я совсѣмъ не плакса, возражала оскорбленная Анюта, а конечно досадно сидѣть всякій разъ любопытною съ цѣлою колодой картъ предъ собою.
— А ты зачѣмъ любопытствуешь?
— Хочется, такъ хочется, не могу удержаться.
— Ну коли хочется, такъ по дѣломъ и остаешься со всею колодой предъ собою.
— А я хочу любопытствовать и не оставаться.
— Ну это совсѣмъ ужь нельзя.
— А я хочу.
— Ну и оставайся при хотѣньи.
Но Анюта начинала сердиться и бѣжала въ кабинетъ къ папочкѣ съ жалобой на братцевъ. Николай Николаевичъ, какъ ни былъ занятъ дѣлами, замѣтилъ, что Анюта очень своенравна и капризна, и не зналъ какъ помочь бѣдѣ. Да и не это одно онъ замѣтилъ. Дѣти расли безъ призора, одѣтые неопрятно, домъ становился безпорядочнѣе, хозяйство шло изъ рукъ вонъ плохо, а денегъ выходило вдвое. Очень призадумался Долинскій.
Однажды пришелъ къ нему одинъ изъ его пріятелей, а Николай Николаевичъ за чашкой плохаго чая, жидкаго и сладкаго какъ патока, при адскомъ шумѣ дѣтей заглушавшихъ разговоръ двухъ пріятелей, вдругъ вышелъ изъ себя, какъ всѣ добрые и слабохарактерные люди.
Онъ отворилъ дверь кабинета и закричалъ громкимъ голосомъ:
— Дайте мнѣ покой. Вонъ отсюда, убирайтесь всѣ въ дѣтскую.
Дѣти, удивленныя и испуганныя такимъ неожинымъ и до тѣхъ поръ небывалымъ гнѣвомъ папочки, мгновенно смолкли и исчезли. Въ дѣтской пошли пререканія и упреки. Вину всѣ дѣти признавали за Анютой. Она сердилась и сварливо оправдывалась. Шумъ не утихъ, а удвоился.
— Силъ моихъ нѣтъ, сказалъ садясь въ кресло Долинскій. — Въ домѣ безпорядокъ, дѣти распущены и того и гляди перепортятся, избалуются, да они уже избаловались: никого не слушаютъ, ничѣмъ не заняты, шумятъ, кричатъ, ссорятся. Кухарка воруетъ, няня зря деньги тратитъ. Денегъ не хватаетъ на расходы. Не знаю что дѣлать? Не слажу никакъ.
— Женись, сказалъ пріятель.
Долинскій съ испугомъ отшатнулся.
— Женись для дѣтей и чтобъ имѣть мать дѣтямъ и хозяйку въ домѣ. Такъ жить нельзя. Притомъ же твои дѣти — дѣти брошеныя, ты самъ это знаешь. Ты на службѣ, а они одни, со старою глупою нянькой.
— Самъ знаю, что брошеныя.
— Одно спасеніе жениться.
— На комъ?
— Сыщи добрую, немолодую дѣвицу или вдовушку, женись не для себя, а ради дѣтей.
— Матери имъ никто не замѣнитъ, сказалъ Долинскій съ глубокою горестію.
— Конечно никто, объ этомъ и рѣчи быть не можетъ. Но ты самъ видишь неурядицу семейной твоей жизни. Три года почти прошло съ кончины твоей доброй жены, а ужь ни дома, ни дѣтей узнать нельзя.
Долинскій махнулъ рукой.
— Не будемъ говорить объ этомъ. Такой, какова была моя Анисья Ѳедоровна я нигдѣ не найду.
— Да и не ищи такой, а просто женись на доброй дѣвушкѣ и хорошей хозяйкѣ.
— Замолчи, мнѣ тяжело слышать это, сказалъ Долинскій, но разговоръ этотъ запалъ ему въ голову. Онъ сталъ выходить изъ дому къ сосѣдямъ и присматриваться къ дѣвицамъ, но ни одна не только ему не нравилась, а наоборотъ онѣ казались ему противны.
Зима прошла, настала весна, и Долинскій меньше терпѣлъ отъ дѣтскаго шума. Шумъ, игры, бѣготня, ссоры и примиренья совершались въ большомъ саду.
Рядомъ съ садомъ Долинскаго стоялъ небольшой домикъ особнякъ, имѣвшій маленькій премаленькій палисадникъ и всего четыре комнатки во всемъ домѣ, да двѣ конурки въ мезонинѣ. Въ немъ жила старушка вдова Софья Артемьевна Котельникова съ дочерью и одною прислугой, бывшею няней дочери. Дворъ домика, садикъ, службы отличались чрезмѣрною опрятностію. Дворъ былъ выметенъ, посыпанъ пескомъ; черная, большая лохматая собака лежала въ конурѣ, набитой чистымъ сѣномъ. Куры большія кахетинскія и маленькія корольки, куры съ хохлами и безъ хохловъ, неуклюжія на высокихъ ногахъ и маленькія и граціозныя съ красивыми пѣтушками, сновали взадъ и впередъ по двору и оглашали утренній воздухъ своимъ кудахтаньемъ. Раннимъ утромъ изъ-подъ бѣлой занавѣски, между горшковъ геранія, показывалась головка молодой дѣвушки; она выглядывала и вскорѣ выходила на посыпанный пескомъ дворикъ. Съ метлой въ рукѣ, весело напѣвая, принималась она усердно мести дворикъ, потомъ уходила въ домъ и возвращалась съ корзиной, въ которой набросаны были корки хлѣба отъ вчерашняго обѣда и ужина, творогъ и всякія зерна, и садилась она на ступени низенькаго, деревяннаго, но замѣчательно чистаго крылечка. Сама она была роста высокаго, стройная, одѣтая просто, даже бѣдно, въ старомъ, простомъ ситцевомъ платьѣ, но опрятно и даже щеголевато. Собой она была не красива, носъ ея былъ немного толстоватъ, губы крупныя, но все лицо ея озарялось, если можно такъ выразиться, чистымъ и яснымъ свѣтомъ большихъ сѣрыхъ глазъ. Глаза эти и улыбка ея добрая и умная были такъ прелестны, что она казалась красивою когда улыбалась, и любовно глядѣла, а глядѣла она на всѣхъ съ благорасположеніемъ и привѣтливостію. И вотъ выйдя изъ дому садилась она на узенькихъ ступенькахъ своего маленькаго крылечка, у дверей своего маленькаго домика, и начинала звонкимъ и чистымъ голосомъ зазывать своихъ любимицъ къ завтраку.
— Цыпъ-цыпъ-цыпъ! Цыпеньки-цыпеньки-ципеньки! звала она звонкимъ голосомъ; куры слетались изъ-за сарайчика, гдѣ копошились, и окружали ее, жадно кидаясь на подачку. Большія и сильныя обижали маленькихъ, но она глядѣла за порядкомъ, отгоняла большихъ и кидала пшено и творогъ маленькимъ. Къ нимъ приставали и воробьи; воришки эти скача и прыгая нагло завладѣвали не своею долей и уносили въ носикахъ на первое дерево свою добычу. Но хищеніе замѣчала хозяйка и громко смѣялась показывая свои бѣленькіе, маленькіе зубки. На хохотъ ея частенько показывалась изъ дому пожилая кухарка, бывшая няня дѣвушки, Дарья-няня, такъ звали ее, и смотрѣла подперши голову рукой на свою веселую барышню. А барышня была у нея одна, одна дочь старой, не слишкомъ здоровой вдовы, и обѣ онѣ — и мать и няня — не могли наглядѣться на свою Машу. Въ этомъ маленькомъ домикѣ съ маленькимъ палисадникомъ и маленькимъ дворомъ, съ курами, воробьями и хохлатою собакой Барбосомъ, жили въ мирѣ, тишинѣ и пріязни эти три женщины: старая мать, молодая дочь и пожилая няня. Богатства не было, но былъ достатокъ, и былъ отъ того, что Котельниковы и мать и дочь жили по пословицѣ: по одежкѣ протягивали ножки. Маша не знала ни капризовъ, ни затѣй. Она была домосѣдка, рукодѣльница, заботливая хозяйка, страстная любительница птицъ и цвѣтовъ, которые сама сажала, поливала и гряды полола въ маленькомъ огородѣ и палисадникѣ. Руки ея, по выраженію Дарьи-няни, были золотыя. Къ чему она ни притрогивалась все въ рукахъ ея спорилось, и все-то она сдѣлать умѣла и все-то дѣлала весело, смѣясь и распѣвая русскія пѣсни голоскомъ звонкимъ и чистымъ. Умѣла она сшить платье себѣ и матери, умѣла смастерить ей незатейливый чепчикъ къ большому празднику, умѣла испечь пирогъ, умѣла изжарить въ случаѣ нужды жаркое и сварить супъ; но до этого Дарья-няня не допускала свою дорогую барышню.