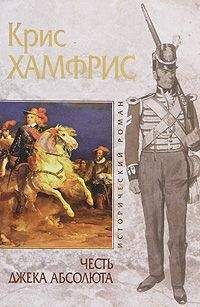Алексей Ливеровский - Секрет Ярика
Если смотреть из окна вагона, скучен зимний вид: черное и белое, белое и черное. Темные ели, светлые поляны, серая кайма ивняка, белая чаша озера. Скучно!
А вы розовый ольшаник видели? Зеленый снег? Оранжевые елки? Лиловые осины? Их можно увидеть. Надо только встать на лыжи и пойти туда, где из окна вагона казалось все черным и белым.
Можно идти в целик. Снег в затишьях такой рыхлый, что новой лыжней не страшно катиться с любой крутизны. Только надо зорко примечать, нет ли впереди обрывчика. Выдадут его светлая кромка и легкая голубая тень. Впрочем, и упасть в такую мягкость не беда; оботрешь лицо, откопаешь лыжи, снег из рукавиц вытряхнешь и дальше.
На полях, где ветрено, горки построже; приходится все время поглядывать, какой снег впереди, Блестящий, чешуйчатый помчит так, что в ушах засвистит, плотный белый схватит лыжи, как руками, а внизу синеватая сыпучая толща подастся и грузно нажмет на ноги.
Склонится солнце, подожжет каемку закатного облака, и на высоком холме шапкой буйно зацветает плодовый сад. Розовые соцветья густо покрывают ветки. Так цветет миндаль. Откуда он здесь, в снежной тишине? Это покрытый инеем ольшаник украсили зоревые лучи. Чуть правее — оранжевые елки стоят вдоль опушки.
Если обернуться к полуночной стороне, увидишь зеленый снег и лиловые осины. Только голубое небо в этот час пропадает. Но и его можно увидеть, если подбежать к березе и взглянуть прямо вверх, вдоль ствола, сквозь кружево веток. Синее-синее небо — точно такое, как над горными ледниками.
Лары
* * *
Сказано в старой энциклопедии: ЛАРЫ (греч., позже — латинск.) — добрые духи, заботятся о благополучии семейств и о здоровье детей, принимают участие в семейных радостях и горе. Стараюсь представить себе эти удивительные существа, похожие и непохожие на нас, людей. Неожиданно приходит мысль — это же наши собаки! Ростом поменьше человека, шерстистые, с горячей красной кровью и таким же сердцем и глазами, как у нас. Они так же чувствуют холод и тепло, боль и ласку, любят домашний уют и совершенно так же, до замирания сердца, радуются просторам полей, таинственности леса, мягкости травы и прохладе речной воды, и, конечно, запахам — в них они разбираются много лучше нас. Они совсем такие же, как мы, только ходят на четырех ногах — так им удобнее — и плохо говорят. Очень досадно и до слез больно бывает, когда понимаешь, что собаке надо рассказать что-то важное, а слов у нее нет.
Они узнают нас после разлуки даже через годы. Мои собаки вежливо встречают приходящих в дом и очень радуются, приветствуют, улыбаются во все зубы, когда приходит знакомый охотник. Они любят и понимают нас. Помню, как в большом горе женщина, рыдая, ткнулась головой в шелковую шерсть сеттера, а он, всегда бойкий, подвижный, лежал не шевелясь, пока хозяйка не успокоилась. Я был свидетелем, как долго, долго белогрудая лаечка ходила на могилу хозяина-охотника, погибшего на лесоповале.
Не может собака рассказать о своей беде. Может быть, поэтому я всегда ощущаю неловкость, чувство как бы вины перед живущим со мной четвероногим другом. А может быть, потому, что знаю, как несправедливы бывают к ним люди. Живут с нами славные лары-собаки, а отношения у нас с ними неравные. Не раз видел, как тоскует собака на пристани, когда отваливает пароход, увозя хозяина. Сколько брошенных бывших щенят бродят осенью и зимой вокруг пустых домов и помоек баз отдыха. А как страшно, когда у бережливого мужика живет нелюбый пес, купленный, чтобы караулить хозяйское добро. А тех, про кого буду дальше рассказывать, никто не обижал.
Рождение гончей
Каждый день, рано-рано утром, мы уходим с Шёлкой гулять. Первое время маленькая вставала с подстилки неохотно, долго потягивалась; отойдя от дома, оглядывалась — не вернуться ли на теплую постель. Теперь — много ли времени прошло? — повзрослела, вскакивает охотно, радуется безмерно, пегим чертиком прыгает по зеленой траве, нагнешься — в губы норовит лизнуть. «Гулять» — теперь понятное, веселое слово.
Имя моей собачки Шелонь — перенял от отца обычай называть выжловок[1] именами рек, — заранее знал, что в семье полное имя не удержится, переиначат обязательно, вот и получилось Шёлка. Привыкли все, и она отзывается. Даже подходит имя — шерсть-то у щенка совсем шелковая, мягкая.
На первых прогулках — с неделю — Шёлка не отходила ни на шаг, потом начала отбегать и вновь прилипала к ногам, как только мы приходили в лес. Еще через неделю и этот страх прошел, и начала моя спутница все чаще и чаще пропадать из глаз.
Надо ли говорить, как быстро проходят летние дни? Удивляться приходится: ну совсем недавно, кажется чуть не на той неделе, нашли первую спелую земляничку, а сегодня уже и черника поспела, и за ужином первый раз зажгли свет. Так все стремительно! И выжловка моя растет стремительно: не помещается уже на подстилке — ноги торчат, длиннющие, не может пробежать под стулом — надо нагибаться, мисочку алюминиевую пришлось сменить — купить вдвое большую. По лесу скачет быстро, уходит далеко, но не теряется: постоянно слышу за спиной быстрый поскок — Шёлка обгоняет меня и вновь пропадает. Часто слышу пискливое повизгивание; не сразу понял, что такое, потом определил: выжловочка отмечает каждый взлет, встречу с любой пичугой — пискнет и дальше скачет. На поле и по берегу с голосом гоняет жаворонков и куличков-перевозчиков. С тетеревами и рябчиками — дело другое: долго кружит на месте подъема выводка, взлаивает, подняв голову, голос чуть грубее — не такой отчаянный цыплячий писк, как по мелким птичкам. Людей и коров встречает отрывистым грозным басом.
А зайцы? Зайцы? Неужели совсем не встречались? Нет, похоже, что было дело. Несколько раз слышался голос Шёлки, чуть другой и, главное, не на одном месте, а быстро продвигающийся. И еще. Раза два — правда, не повезло: очень далеко — слышал какой-то незнакомый голос — может быть, и не Шёлка, чужая собака.
И заяц ей ни к чему — нужен его след. Да! Да! Судьба гончей — всю жизнь взволнованно и страстно мчаться с криком по следу, мечтать догнать и не догонять. В этом счастье. Редко, очень редко сганивают гончие. Догонит — и что же? — оказывается, это только заяц! Может быть, я неправильно, по-человечески сужу, по мне-то думается, что мечта всегда дороже.
Так день за днем, неделю за неделей гуляли мы с Шёлкой по лесу, все дальше и дальше. И какая это радость — наблюдать за молодой кровной собакой! Как она растет, крепнет, как проявляется чутье, прогулочный, ребячливый ход меняется на поиск, на деловой полаз, как волнуют щенка лесные встречи. Ей-богу, это не хуже самой охоты! И уже совершенно не стоит, нечестно вспоминать в это время разгрызенные любимый гребень жены и свои новые туфли.
Наступили дни встречи позднего лета с ранней осенью. Удивительные в своем разнообразии: провальные переходы от неожиданного ливневого студеного буйства к тишайшей кротости возвращенного лета.
Вчера мы с женой устроили Шёлке день рождения — решили отметить полгода со дня появления ее на свет — накормили любимой ухой из окуней и угостили конфеткой: Шёлка неистовая лакомка.
Это вечером, а с утра мы с ней, как всегда, — в лес.
В поле согрелись кузнечики и так зашумели, застрекотали, будто заклинания творят — упрашивают вернуть еще недавнее тепло. Оттаял примороженный к головке сивца шмель и устремился куда-то в тяжелом гудящем полете. Первые в это утро облака пытались вновь утвердить лето, принять обычную ватную округлость — не получилось: тревожными белесыми прядями разлохматились их края. И холодом веет просинь меж облаками, подчеркнутая летучей паутиной.
В лесу влажно и тихо, пожелтел папоротник орляк, рдеют ягоды ландыша, мягко подается под ногой зеленый мох ельника, расцвеченный побрызгами палого листа.
Я расстегнул ошейник: «Стоять! Стоять!» Постояли мы с Шёлкой перед напуском, как полагается, и не одну минуту. Мне хорошо в торжественные минуты наброса, Шёлке трудно — ногами перебирает, на меня часто оглядывается: когда же кончится эта мука?
— Арря! Давай, Шёлка, давай!
В старом высокоствольном березняке поднялся я на высокий бугор над болотом. Папоротник чуть не до горла — земли не видно. И тут пискнула моя выжловочка, как бы в удивлении или от испуга, и запела взволнованно и горячо. Мимо меня, шурша и струйчато колебля резные верхушки папоротников, рядом прошел, прошмыгнул кто-то. Я не видел кто — заяц? лисица? Но Шёлкины белые бока промелькнули там, где слышалось шуршание.
Поет Шёлка, да, да, поет. Невозможно сказать: «Залаяла моя собака». Прямо оскорбительно и неверно.
Шел гон, яркий, без скола[2], почти без перемолчек. Мчалась выжловка, не разбирая дороги, сквозь высокую траву, хлесткие прутья, через болотную грязь и подпорную воду — за ним, за ним, за убегающим, за тем, кто так маняще пахнет. И пела, кричала во весь голос, то победно чуть гнусаво трубя, когда настигала, то почти рыдая, когда зверь отростал[3] и надо было поскорее доспеть, то металлически звонко вскрикивая от радости и удивления, когда вновь попадала на потерянный след.