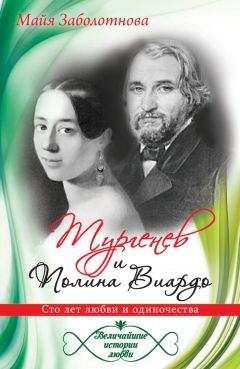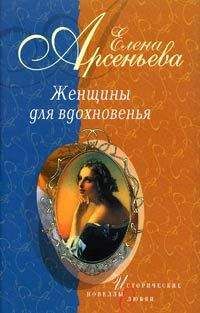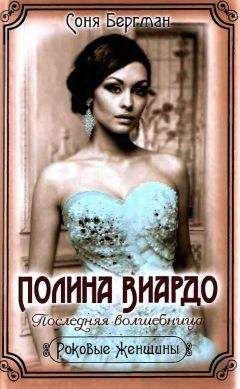Александр Куприн - События в Севастополе
– Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать – и дедушка и профессор. Но ни здесь, ни в городе – ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов – заказал знакомому охотнику – и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной – увы! – неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки.
– Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть.
– Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно.
Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха.
Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.
– Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, – сказал он с особенной поварской гордостью. – Мы давеча взвешивали.
Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами.
Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.
– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, – сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. – Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные. На манер вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в масло?
– Делай, как знаешь. Ступай! – приказала княгиня.
IVПосле пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину; светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе уменьем петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары; знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны, с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров: штабного полковника Понамарева, преждевременно состарившегося, худого, желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов.
Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой – за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой – палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя-полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.
– Точно… архиерея! – сказал генерал ласковым хриповатым басом.
– Дедушка, миленький, дорогой! – говорила Вера тоном легкого упрека. – Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.
– Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, – засмеялась Анна. – Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании…
Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку.
– Девочки… подождите… не бранитесь, – говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. – Честное слово… докторишки разнесчастные… все лето купали мои ревматизмы… в каком-то грязном… киселе… ужасно пахнет… И не выпускали… Вы первые… к кому приехал… Ужасно рад… с вами увидеться… Как прыгаете?.. Ты, Верочка… совсем леди… очень стала похожа… на покойницу мать… Когда крестить позовешь?
– Ой, боюсь, дедушка, что никогда…
– Не отчаивайся… все впереди… Молись Богу… А ты, Аня, вовсе не изменилась… Ты и в шестьдесят лет… будешь такая же стрекоза-егоза. Постойте-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров.
– Я уже давно имел эту честь! – сказал полковник Понамарев, кланяясь.
– Я был представлен княгине в Петербурге, – подхватил гусар.
– Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтинский, милый мой, там из коляски… Пойдемте, девочки… Чем, Верочка, будешь кормить? У меня… после лиманного режима… аппетит, как у выпускного… прапорщика.
Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время – как и до сих пор – он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г. К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, – неторопливые, эпически спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать.
По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, – черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечного терпения и поразительной физической и нравственной выносливости.
Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позовут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря наличное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, – сказал он, – но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое.
В войну 1877–1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то, что был мало образован, или, как он сам выражался, кончил только «медвежью академию». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре – легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, – это майор Аносов».
С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных во время балканского перехода пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К. – должность более почетную, чем нужную в целях государственной обороны.