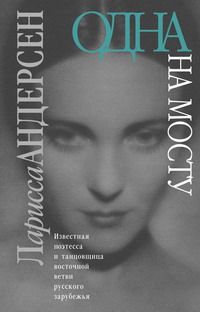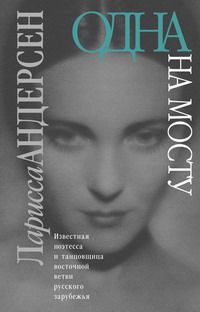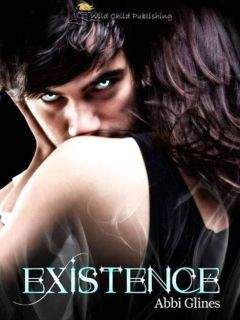Ларисса Андерсен - Одна на мосту: Стихотворения. Воспоминания. Письма
Вдруг ни с того ни с сего взялась рисовать — все какие-то ромашки масляными красками (ну почему ромашки, когда тут тропики? Орхидеи бы!). И, к сожалению, очень часто хожу на ужины и на коктейли. Эго уж ни уму ни сердцу. Народ большей частью одного и того же комильфотного типа, себя показать уже не очень-то интересно получается. Все это только зря отнимает время и деньги — на новые платья <…>.
Новый год мы встречали всей компанией «Мессажери» с гостями. Было нечто вроде лунного пикника при старом, уже давно необитаемом доме бывшего директора. Такой большой колониальный дом, с множеством веранд и привидений, в глубине огромного сада, на берегу реки. Была «атмосфера» и красные свечи в бутылках на столах. Немного боялись бомбы (перед Рождеством бомба была сброшена на отель) <…>.
Не знаете ли что о судьбе Галли Ачаир?[103] Еще: получаю к Рождеству, и даже чаще, письма от жены Святослава Рериха. Писала ли я Вам о своей встрече в Индии с ними? <…>
Пожалуйста, не теряйтесь, Мэри. Обнимаю, желаю всего хорошего в этом еще новом году.
Ларишон
Ю.П. Крузенштерн-Петерец
12 апреля 1969. Таити
Милая Мэри, спасибо за журналы, за вырезки — очень интересно. Очень понравился дневник китайского школьника. Из «чужих» — Ахматова, два стихотворения-пародии и чудесный рассказ об открывалке для пива. Это напоминает мне мои приезды во Францию после трехлетней жизни, полной переживаний, где-нибудь во Вьетнаме или Индии. Маман сидит в том же кресле, вяжет почти такую же самую кофту и слушает радио, приговаривая: «Кескиль шант маль ментенан…»[104] И кажется, что и не было никаких трех лет, а так, съездили на прогулку и вот вернулись к обеду.
Может быть, во Франции я забуду немножко о рыженьком
котенке, умершем по моей вине. А пока не могу, даже прочитав о блокаде Ленинграда и о смерти Цветаевой <…>.
Но вот все же нашла те стихи, что спрашивала у Вас, нашла в копиях писем к Вам.
Посылаю снова, с полным доверием: распоряжайтесь как
хотите.
* * *
Который-то день, утонувший в тумане…
Который-то, вовсе утерянный час…
И сами мы где-то… В большом океане…
И волны несут и баюкают нас.
И все хорошо. Будто не было горя,
И будто не страшно, что будет потом.
Наш дом — пароход. Наша улица — море,
И плещется лунная ночь за бортом.
И шепчет… И сердце в каютном уюте
Уснуло, свернувшись клубочком, как кот…
Не надо Бомбея, не надо Джибутти, –
Пусть наш пароход все плывет и плывет…
Не надо земли. Только б море да море…
Не надо базаров, войны и газет,
Лишь море, и в этом туманном просторе
Лишь этот чудесный обманчивый свет.
<…> Что у Вас было пасхального на Пасху? Я спекла куличи. Вышли очень плохие, хотя поднялись очень гордо. Тем не менее я отвезла один (маленький, что же людей гробить) Смолиным и долго слушала рассказы о старом времени. Он сибиряк и был в Белом движении, дрался в тех местах, что я могу считать родными и из-за которых теперь Союз ругается с Китаем.
Все-таки зверский там был быт. Как я, такая «чувствительная» барынька, оттуда вышла? Хунхузы, тигры на окраинах городов, медведь в церкви, и еще на фоне нашей «гражданской».
Другой кулич подарила художнику Грэсу. Наверное, подавится, очень деликатный человек, похож на старого Барримора.
Остальные жру сама. Уборщица не хочет. Морис тоже что–то отнекивается.
А творогу вот нет, очень обидно. Кончаю. Целую Вас. Жду письма.
<…> Хочу сегодня пойти с компанией смотреть в третий раз «Гон вид де Винд». У нас вдруг идет, наверное, с «Купюрами». Вообще же у нас идут только Тарзаны и ковбои и еще зверские убийства. На сентиментальных мелодрамах публика заливается, хохочет. Таитяне не чувствуют и не желают чувствовать всяких грустей, сожалений и других тонких негативных чувств. В жизни нужно смеяться или драться. Когда страшно — интересно, шевелится какой-то еще не определившийся нерв и получается чувство жизни, можно не заснуть в кино. Смеются с готовностью и в жизни. И когда расквасят тарелку или свой нос или когда видят хромого или кривого. И он сам смеется. Во всяком случае, «из мухи слонов не делают» и никакой гордыни у них нет.
Кончила.
2 мая 1969. Таити
Дорогая Мэри! <…> Вот Вам еще «перлы». Прошу критики, если можно, детальной. Мне не с кем посоветоваться…
БЕССОННИЦА
Мы оба — бунтари ночами,
И я, и ветер за стеной.
Но ночи строгими очами,
Как сторожа, следят за мной.
Вершат обход свой непреложный,
Листвой под окнами шуршат…
И замедляют шаг тревожно,
И замирают, не дыша…
И отступают, и бледнеют,
И исчезают на глазах…
И лишь усталый ветер веет
В опустошенных небесах.
В них нет чудес. И нет участья.
И встанет новый день во зле.
Но — жить! Но быть какой-то частью
Тут, на затоптанной земле!
Я встану. И лицо умою,
Чтоб встретить утро как всегда.
И посмеется надо мною
Извечно юная вода.
…Теперь слышу «зов кухни».
4 мая 1969. Таити
Это не значит, что я целых два дня проторчала на кухне. Кроме этого — ездила верхом, за покупками, перешила платье, чтобы красоваться в гостях <…>, давала балетный урок девочкам. <…> И два с половиной дня ушли…
Если смерть моего рыженького Ульриха[105] могла помочь человеку, то это утешает, но, Мэри, скажите, кто этим «занимается»? Бог, которого надо питать жизнью его созданий? После христианства с его «Отче наш», с Пастырем добрым, пусть даже символами — тот страшный Бог Авраама, Исаака и Иакова — совершенно неприемлем… А между тем сам Христос должен был принести Себя в жертву? Кому? Совершенно непонятно и страшно. И жертвы этому Кому-то всегда приносились и приносятся. Может быть, это Шива? Шива, который разрушает, потому что надо созидать новое, и все это держит какое-то равновесие в целом…
В молитву я верю. И в святых тоже. И всегда (нет, не всегда) молюсь за животных Франциску Ассизскому. И Серафиму Саровскому тоже. Когда я была маленькой, я запуталась в святых и однажды призналась маме, что Боженьку очень люблю, а всех этих святых что-то не очень. Теперь у меня получается наоборот. Интересно, наступит ли полное просветление или я так и умру в ереси.
А Вы, Мэри, пожалуйста, не умирайте. То, что Вы все вспоминаете и сожалеете о «бесполезной жизни», может быть перед новым периодом, большой переменой. У меня всегда так бывало. Не умирайте, потому что Вы замечательно пишете — Вы еще должны многое сказать. Не умирайте, потому что Вы так чувствуете и понимаете жизнь. Не умирайте, наконец, потому, что Вы умеете и других вытаскивать — вот Валерия вытащили, он писал, что его жизнь теперь осмыслена (благодаря Вам), и даже такого чурбана, как я, начинаете раскачивать. Меня нельзя бросать, я погибну на кухне, причем ни мне, ни другим от этого большой радости не будет. Вот.
<…> Вы пишете, что Пастернак плохо пишет прозу, да и многие русские об этом говорят, в том числе и Одоевцева, а мне этого совсем не видно, мне кажется, что замечательная проза. А то, что книга не сложена так «удобно», как обычно, а вся разбита на несвязные куски, то это, мне кажется, как жизнь. В жизни тоже не видно связи между отдельными впечатлениями. Не угадаешь, кто пройдет мимо, сыграв, тем не менее, очень важную роль, может быть, повернув нашу жизнь в другую сторону, и «чем кончится и чем сердце успокоится».
Но вообще я хочу спать, льет дождь, и я высказываюсь смутно…
Стихотворение про промахнувшуюся колдунью пока печатать не надо, хотя вы сами знаете, как путается личное с выдуманным — «придерешься» к чему-нибудь настоящему, ну, и разведешь <…>.
Когда мне было лет пятнадцать, в «Рубеже» появилось мое стихотворение о том, как алым цветом распустилась страсть и еще что-то вроде. Мамины знакомые приходили сокрушаться о моем преждевременном падении. А фактов было на пятак молодой человек на меня смотрел «так», и на меня действовало — ну, и написала… (Но вообще-то, на самом деле, это тоже считается, не правда ли? Иногда больше, чем факты, о которых столько волнуются.)
Да, Ваш «Питомник»[106] уже известен в Союзе. <…>
Целую <…> буду писать прозу, только не умирайте совсем.
9 февраля 1970. Париж
Милая Мэри,
Хотела Вам ответить чем-нибудь приятным, например: сделала то-то и то-то для «Возрождения». Но вместо этого — заболела гриппом и не сделала ничего. Кроме одной насильной подписки для одной знакомой, что не могла раскачаться. Но и за нее не заплатила, так как пошла на свиданье с Горбовым[107] и Оболенским[108], уже чихая и кашляя, и <…> забыла деньги. Знаю, знаю… шляпа. (Кстати, у меня и не было достаточно на две подписки.) Теперь я их «собрала и зажала», звонила князю[109], но он занят журналом и обещал позвонить, когда освободится.