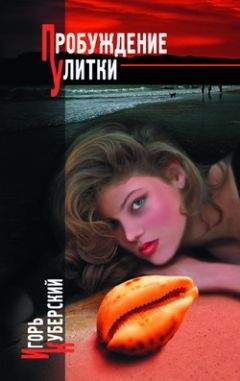Неизвестно - zolotussky zoil
Куторга сравнивает философа Сенеку, сумевшего «сбежать» от злодеяний свой эпохи, и Христа, который принял страдания, чтобы победить зло. Поступок Христа выше поведения Сенеки. Если Сенека теоретически пришел к выводу, что народа нет, государя нет, государства нет и остается одна опора, на которую можно рассчитывать, — человек, то Христос сам стал этим человеком, своим примером поддержавшим каждого из нас.
Ю. Домбровский дает понять, что христианская идея немыслима без Христа, без его человеческого поведения в условиях жестокости и беззакония. Только через своего Сына, через такого же человека, как и другие люди, живущие на земле, Бог смог найти путь к сердцу смертных.
Низводя этот сюжет на землю, в страшные условия 1937 года, Ю. Домбровский показывает, что у человека остается один выход: последовать примеру Христа. Старик Буддо — опытный лагерник, чей цинизм наращен годами пребывания за решеткой, советует Зыбину уступить следствию, сдаться, подписать все и, получив не самый большой срок, спасти свою жизнь. Но Зыбин не принимает ни пути Буддо, ни пути Корнилова, а выбирает путь чести. В лице Зыбина Юрий Домбровский изображает героя- интеллигента, бросающего вызов не только сонму палачей, не только всем этим хрипушиным, штернам и несть им числа, включая Иосифа Джугашвили, а всей системе страха и сыска, каковая, как ей кажется, утвердилась в истории навечно. В романе то и дело мелькают уничижительные фразы об интеллигенции: «засранная интеллигенция», «паршивая интеллигенция». И вот из среды этой интеллигенции встает человек, с которым ничего не могут поделать ни кровавый синедрион, ни иезуиты-следователи, ни вышибалы-охранники. «Я боюсь больше всего потерять покой. Все остальное я так или этак переживу, а тут уже мне верно каюк, карачун» — эти слова Зыбина сияют как свидетельство несгибаемости людей, воспитанных на свободолюбии Шекспира и Пушкина.
В «Факультете ненужных вещей» есть не только палачи и жертвы, не только растаптывающие и растоптанные, но есть и победители. И одним из них является Зыбин.
Да, пишет Ю. Домбровский, были и среди интеллигентов люди, которых ломали, превращали в ничто, заставляли служить уголовникам, были примеры падения, унижения, потери лица и достоинства. Опытный зек Каландарашвили рассказывает об этом Зыбину. Но и тот же Каландарашвили, который помог когда-то Сталину в годы их революционной молодости: послал в ссылку теплые вещи и валенки, а также подарил 50 рублей, теперь пишет ему из лагеря письмо, где, иронизируя над адресатом, просит вернуть долг, понимая, что это послание может привести его к гибели. Та же ирония слышна в интонации объяснительных записок Зыбина, которые он посылает на имя начальника внутренней тюрьмы, подписывая их издевательски: «К сему Зыбин». Он смеется над теми, кого не могут взять ни мольбы, ни плач, ни стоны пытаемых. «Да пусть они все подыхают!» — говорит прокурор Мячин об арестованных. Но смеха, насмешки над собой такие, как он, пережить не могут. Им кажется невероятным, что кто-то в этих условиях еще может смеяться над ними, имеющими над душой и телом человека полную власть.
Эти «нумизматы», обирающие заключенных и составляющие из конфискованного имущества свои коллекции, эти простодушные любители простодушного искусства (в кинозале НКВД, где идут просмотры бодрых довоенных фильмов, висят картины «Грачи прилетели», «Девятый вал», «Аленушка») страшно не любят слова «госпитализация», потому что оно говорит о результатах их следственной практики. Когда Зыбин пробует дискутировать с ними вопрос о праве, поскольку он сам окончил юридический факультет, то они, слуги права, отвечают ему: это факультет ненужных вещей. О том же говорит потом Зыбину бывший адвокат Каландарашвили: «Право — одна из цепей, которой буржуазия оковала пролетариат». Доказательству этого тезиса посвящена в романе вся деятельность правового аппарата и таких его представителей, как Роман Львович Штерн. Этот «мастер психологического рисунка», стряпающий романы и пьески по показанием своих «покойничков», являет пример палача-литератора, палача-«интеллигепта», чьи «образованность» и «культура» служат государственной гильотине.
Вопрос о культуре и ее месте в тоталитарном обществе, занимает Ю. Домбровского особо. Его герои — художники, археологи, писатели (Зыбин, как и сам Ю. Домбровский, — автор книги о Державине) — люди культуры, для которых свобода неотделима от их знания, но им в романе противостоит иная «культура», не только уживающаяся с режимом Сталина, но и возносящая его на пьедестал как некое наивысшее творение человеческого духа. Это культура граммофона, в который заложено семь или десять пластинок, играющих одну и ту же музыку.
« — ... Я их все могу пересчитать по пальцам, — говорит Зыбин. — Вот пожалуйста: «Если враг не сдается — его уничтожают», «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина», «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», «Лучший друг ученых, лучший друг писателей, лучший друг физкультурников, лучший друг пожарников — товарищ Сталин», «Самое ценное на земле — люди», «Кто не с нами, тот против нас», «Идиотская болезнь — благодушие». Все это вместе называется «новый, советский человек» и «черты нового, советского человека».
На стороне одной «культуры» стоит в романе «наш советский Чехов» — драматург Штерн, пишущий монодрамы о вредителях, духовно переродившихся под воздействием «гуманных методов советского следствия», на стороне другой — художник Калмыков, этот гений первого ранга Земли, чьи прихотливые композиции, названные «странно» и «не совсем понятно», соединяют в себе плотский лик «природы природствующей» с таинственным зовом, идущим из глубины «золотого неба астрологов», бросающим на земные предметы и события космический свет.
Красота в «Факультете ненужных вещей» противостоит уродству «целесообразности», ее антиэстетизму, ее надругательству над идеей и идеалом. «Что происходит с идеей, когда она становится действительностью?» — задает вопрос Ю. Домбровский и отвечает: «Очень много с ней неожиданного и неладного происходит тогда. Появляется она совсем не похожей на себя. Иногда такие гады вместо ангелов повыползут... »
Такова оценка этики и эстетики «социалистической целесообразности». В иерархии ценностей, установленной этой целесообразностью, Штерн играет роль «второго Чехова», а Федор Михайлович Достоевский мог бы сделаться коллегой Штерна. «Я часто думаю: какой бы из него следователь вышел! — говорит Штерн о Достоевском.
— Вот с кем бы мне поработать! Он знал, где таится преступление! В мозгу!! Мысль — преступна. Вот что он знал!»
Достоевский в этих рассуждениях оказывается на одной доске с «Ромкой-Фомкой, ласковой смертью», безжалостно актирующим целые партии «христосиков», как он презрительно называет верующих людей, зачисляя их всех по «первой категории» (эвфемизм, означающий на языке нового правосудия расстрел).
Проза Ю. Домбровского, как ни иронична, ни разоблачительна она, как ни направлена острием против конкретных социальных химер, не принадлежит к той литературе, которую Достоевский ввиду ее самодовольства назвал «абличительной». Это проза, где действительность, хоть и видимая через хорошо промытое стекло, часто не похожа на себя, часто уходит от взоров читателя в некую ирреальность, в некий фантастический мир, где, как на полотнах художника Калмыкова, играют отсветы судьбы и рока.
Судьба наводит Зыбина на встречу с Линой, и судьба в конце романа наводит чекиста Неймана на другую женщину — на молодую утопленницу, лежащую под брезентом на берегу реки. Когда отбрасывают брезент, Нейману предстает ее красота. «И тут мертвая, — читаем мы, — предстала перед Нейманом в такой ясной смертной красоте, в такой спокойной ясности преодоленной жизни и всей легчайшей шелухи ее, что он почувствовал, как холодная дрожь пробежала и шевельнула его волосы». И хотя, продолжает Ю. Домбровский, у Неймана не было «ничего такого затаенного», что могло бы в эту минуту перевернуть его жизнь, он все же содрогнулся и понял пустоту своей души, которой некому даже сказать: «Спаси!.. помяни, Господи, мя в царстве своем», — как сказал перед смертью разбойник, распятый рядом с Христом, и был спасен.
«...Предается бо гробу, камнем покрывается», — читает Яша — «божий человек» молитву по утопленнице, и мы вспоминаем, что останки красавицы, погребенной в казахской степи (о ней идет речь в начале романа), были найдены тоже под камнем, и образ этой прабабушки Клары, как называет ее Зыбин, воссоединяется с образами остальных прекрасных женщин, как бы образуя фронт сопротивления, фронт неподчинения красоты насилию.
История воссоединяется: преступления порождают преступления, а сопротивление и подвиги — стойкость перед лицом палачей. Роман Юрия Домбровского — ода героическому поведению интеллигенции, которую наследник тиранов прошлого Иосиф Джугашвили не смог стереть с лица земли. И не зря на завершающих страницах романа вновь является художник Калмыков, наносящий на холст пейзаж Алма-Аты и вписывающий в него три странно соединенные судьбой фигуры, которым суждено было сыграть здесь главную роль. Это отпущенный на свободу по случаю падения Ежова Зыбин, примирившийся с участью стукача Овод-Корнилов и разбитый, уничтоженный, изгнанный из органов Нейман.