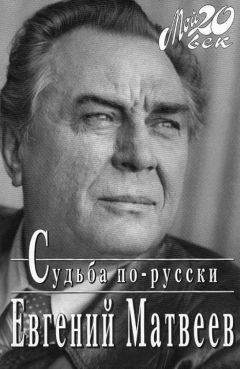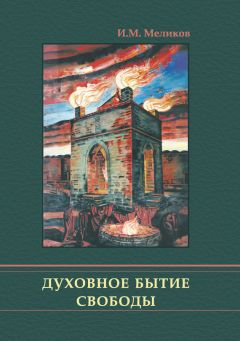И. Халатников - Дау, Кентавр и другие
Приведу пример. Выдающийся физик и астрофизик, академик и трижды Герой Социалистического Труда, Яков Борисович Зельдович почти до конца своей жизни считался «невыездным». Сейчас уже не секрет, что он был одним из творцов советского ядерного оружия. Даже через много лет после того, как он оставил эти занятия, ему разрешалось выезжать лишь в страны Восточной Европы. В 1986 г. наш институт проводил очередной совместный симпозиум с Институтом физики им. Г. Маркони в Римском университете, на этот раз посвященный астрофизике и космологии. Возникла уникальная возможность попытаться включить Зельдовича в состав делегации. Это и было сделано. Как показал результат, момент был выбран правильно. К 1986 г. ограничения на поездки уменьшились. Вопрос о выезде Зельдовича, естественно, решался на высоком уровне, и сенсация состоялась. Легендарный Я.Б. впервые появился на Западе, в Риме. К сожалению, все это произошло довольно поздно, незадолго до его ухода из жизни.
Надо сказать, что участие в работе над ядерным проектом наложило свой отпечаток на жизнь каждого, кто был в той или иной степени к нему причастен. История Зельдовича — один пример, а вот другой аспект.
Моя дочь Лена, которая, как я уже упоминал, родилась во время войны, успела вырасти и стать взрослой. В восьмидесятые годы она много вращалась в диссидентских кругах, была знакома с писателями, правозащитниками, в том числе близко дружила с писателем Владимиром Войновичем. Когда на последнего начались серьезные гонения, Лена вела себя совершенно бесстрашно. Она не только открыто бывала у Войновича в гостях, но и прятала у себя дома его рукописи, выносила их из его дома, перевозила в своей машине и так далее. Я тогда, естественно, ничего об этом не знал. Ее могли двадцать раз остановить, обыскать, найти эти бумаги... Но ее никто никогда не трогал. Я не понимал этого — почему сотрудники КГБ, непрерывно дежурившие у дома Войновича, спокойно пропускали ее мимо, не глядя, что у нее в сумке? Объяснение, как я думаю, заключается в следующем. Дело в том, что, когда мы все участвовали в Атомном проекте, Берия запретил своим подчиненным в принципе трогать этих людей и их близких. Не просто трогать, но — «разрабатывать», так это тогда называлось. Был, очевидно, составлен некий список этих людей, не подлежащих «разработке». И Лена как моя дочь была в этом списке — другого объяснения у меня пет.
Надо понимать, что такой список составлялся вовсе не для того, чтобы избавить нас за наши заслуги перед страной от преследования КГБ. Но просто не всем сотрудникам КГБ по чину полагалось знать, чем занимаются люди из этого списка. Представьте себе ситуацию — к вам приходит сотрудник КГБ (от этого никто не был застрахован), начинает задушевную беседу и спрашивает в числе прочего, чем вы таким занимаетесь. И вы обязаны ему отвечать. Так вот, то, чем занимались люди из списка, рядовому сотруднику КГБ знать было запрещено. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, и был составлен этот список с запретом на разработку.
Физик, академик И.К. Кикоин, которого в шутку называли «сионист-сталинист», активно участвовал в Атомном проекте. Его брат, А.К. Кикоин, работавший в Свердловске, на Урале, очевидно, допускал некоторые вольности в разговорах. Об этом стало известно Берии. Тот приехал к Курчатову в институт, встретился с ним и сказал, что надо как-то попросить брата Кикоина придержать язык. Но при этом заметил: «Я вас заверяю, что все, кто как-то причастен к проекту, защищены полностью». Так вот, в этом смысле я тоже был защищен. Но, с другой стороны, я, по-видимому, несмотря на все заслуги и даже на свою переписку с Андроповым, все же был внесен в какой-то черный список.
Были разные международные комиссии, комитеты «Советские ученые за ядерное разоружение», или — «Против ядерной войны». В них входили крупные ученые, и меня, зная мои международные научные связи, несколько раз пытались включить в их состав. И каждый раз я загадочным образом из списка исчезал. Список где-то рассматривался, визировался.
Один раз было уж совершенно курьезно. Это был уже конец перестройки, железный занавес если еще не совсем рухнул, то изрядно обвис, и из страны началась утечка мозгов. Меня, как руководителя ведущего научного института, этот процесс очень волновал. Мои лучшие сотрудники стали в этих условиях думать об отъезде за границу, некоторые уже успели уехать, я понимал, к чему все это может привести и решил бороться с этим явлением. Я был вообще первым, кто начал вслух об этом говорить. Я выступал, где только мог, искал какие-то способы удержать своих ученых, пытался создать международные научные центры. Я думал о создании такого Института где-нибудь в Европе, чтобы мои сотрудники могли работать там вахтовым методом, не порывая окончательно связи с Россией... Из этого в конечном счете у меня ничего не вышло... В это время актуальность проблемы дошли уже до самых высоких уровней, до советского отдела ЮНЕСКО, и там было решено создать комиссию по утечке молов. Я полагал, что место в комиссии мне гарантировано. К тому времени я уже съездил на несколько международных конференций, посвященных этой проблеме, меня везде приглашали. В общем, я считался «специалистом».
Прихожу на первое организационное заседание этой комиссии ЮНЕСКО, и обнаруживаю что меня в списке комиссии нет. Тут же начали говорить: «Ой-ой-ой, это машинистка ошиблась». Список цензурировался в том же месте, где меня всегда вычеркивали. Система продолжала работать.
Кстати, о машинистках, которые совершают нужные ошибки. В конце 90-х годов я возвратился из командировки, и застал весь институт во главе с директором в глубоком унынии. Оказалось, что в Академии наук проводилась первая реформа, которая начиналась с аккредитации институтов. Предполагалось, что непрошедшие аккредитацию — будут закрыты. В Отделении физических наук РАН составили список 10 институтов подлежащих первоочередной аккредитации. Так читатель уже догадался, институт Ландау в этот список не попал. Я тут же отправился к президенту РАН Ю.С. Осипову, и недоразумение было улажено. Однако оставалось загадкой, как такое могло произойти. Однаэ&ш, прогуливаясь в Черноголовке с моим многоопытным другом и влиятельным членом РАН, я спросил его о недоразумении с аккредитацией института Ландау. И получйл ответ: «Что ты устроил такой шум?! Машинистка ошиблась». Это меня наводит на мысль о «заговоре» машинисток, которые ошибаются в нужное время и в нужном месте.
Как учит физика, в любой замкнутой системе всегда идут процессы, ведущие к возрастанию энтропии. Но это относится лишь к суммарной энтропии системы. В отдельных частях системы энтропия может снижаться за счет повышения ее в других. В конце концов поэтому и возможна жизнь отдельных индивидуумов. Становление и расцвет Института Ландау совпал с периодом застоя в истории нашей страны, как принято сейчас характеризовать прожитые нами годы. Однако мы видели из фрагментов истории института, что в той системе всегда оставалась возможность для создания ниш, в которых шел творческий созидательный процесс. И это происходило не только в науке.
В настоящее время наша страна больше не представляет собой замкнутую систему, она лишь часть большой системы — мирового сообщества стран и народов. И эта часть теперь далека от равновесия. А в неравновесной системе могут идти процессы, предсказать направление которых, как правило, невозможно. Главная особенность Института Ландау состояла в том, что он почти с начала своего зарождения представлял собой часть мирового научного сообщества. Поэтому то, что произошло с институтом, может служить до некоторой степени моделью того, что ждет нашу страну. А главный урок — институт выжил, правда, не в том виде, какой он имел когда- то и каким был задуман.
Итоги же мне хочется подвести все же на оптимистической ноте. Я хочу сделать это словами П.Л. Капицы, который, заканчивая разговор со мной, неоднократно повторял: «Исаак, пережили татарское нашествие, переживем и это».
Потерянный рай (вместо эпилога)
Так назвал свои годы в Институте Саша Мигдал. Предоставим ему слово.
«После того как не стало Ландау, И. Халатников и несколько других Апостолов создали Институт Ландау. Это была середина 60-х годов, когда страх сталинского времени исчезал, а «железный занавес» начинал ржаветь. КГБ все еще играл важную роль, но это была уже более сложная, не всегда смертельная игра.
Исаак Халатников — действительно выдающийся человек, вклад которого в теоретическую физику трудно переоценить. Он был соавтором (совместно с Ландау и Абрикосовым) эпохальной работы, где они впервые открыли известную проблему «нуль-заряда», что послужило основанием современного развития внутренне непротиворечивой теории поля. Но дело его жизни — создание Института Ландау, сыгравшего важнейшую роль в истории физики XX столетия, руководил он этим институтом несколько десятилетий. Халат был гением политической интриги, он использовал все доступные ему связи и средства для достижения своей главной цели — собрать лучшие умы и создать им условия для свободного творчества. На поверхностный взгляд выглядело так: «Запад обвиняет нас в антисемитизме. Лучший способ опровергнуть это — создать институт, где молодые, талантливые люди вне зависимости от национальности смогут работать, свободно путешествовать за границу, получать все, что сделает их счастливыми. Это может быть небольшой институт по стандартам Атомного проекта, где не будет секретных исследований. Он будет стоить не много, но поможет “разрядке”. Вид счастливых и преуспевающих сотрудников Института скажет западным друзьям больше, чем какая-либо пропаганда».