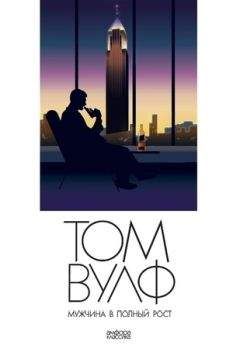Светлана Павлова - Гонка за счастьем
— Зато он всегда был и остается самим собой, а это дорогого стоит… придет еще его время…
— Я никогда ни на чем не настаивала, когда речь заходила о твоих творческих приоритетах, но, боюсь, здесь нам с тобой не договориться.
У Загорского не было бунтарства в творчестве — он не писал ничего фрондерского, авангардного, додекафонического, как некоторые другие, все время находящиеся в творческом поиске. И не потому, что рационалистическая серийная техника, додекафония, алеаторика были признаны коммунистическими идеологами и всей ответственной за культуру цепочкой чуждым явлением, не допустимым в советской музыке. Он, признавая право на существование любого музыкального направления, не разделял безоглядного увлечения некоторых талантливых композиторов только авангардом, потому что раньше других разобрался в нем и не счел его особенно перспективным. От этого направления, столь почитаемого многими молодыми и талантливыми композиторами, на него веяло неким технократическим диктатом, а он в творчестве предпочитал простор. Некоторые новые идеи были созвучны и ему, запоздалое же подпольное увлечение некоторых композиторов только модернистами — новейшей музыкой Штокхаузена, Шенберга, Веберна, Ноно, Булеза, Бартока, Лигетти, Вареза, Кейджа и других, менее известных, он не разделял и полагал обыкновенной данью моде, неким завихрением заблудших искателей. В творчестве необходимо быть независимым, и он, зная это, всегда стремился быть свободным от чужих влияний. Свои мысли он излагал жене — четко и честно:
— Нельзя идти против традиций только потому, что это — модно… Если чувствуешь, что рамки тональной системы становятся слишком тесными — что ж, тогда тебе и карты в руки, дерзай… Только не нужно следовать этому модному направлению из одного протестного порыва или желания быть на гребне волны и приобщиться к взрыву официозности… Всегда считал и считаю до сих пор, что чрезмерное почитание, а тем более следование и подражание большинства моих современников новой волне для меня неприемлемо, даже вредно, передозировка чужим радикализмом может полностью подавить собственную индивидуальность.
На ее вопрос, почему он не пишет статей на эту тематику, он отмахнулся и сказал:
— Терпеть не могу быть назидательным и вообще поучать — не мое дело, может, именно поэтому я не люблю преподавательской работы. По натуре я — одинокий волк, сам себе голова…
Эта симфония была единственной попыткой доказать, прежде всего самому себе, что он может все — включая и заарифметизированную додекафонно-серийную технику.
Да, за всеми творческими успехами, подъемами и победами он слегка угорел и успел позабыть о незыблемости основ — в музыке, как и во всем искусстве, царили не вдохновение, самобытность и спонтанность, как он полагал, а совсем другая триада: идейность — народность — реализм. Идейность предполагала партийность — не стоит объяснять, какую. Народность имела в виду только один тип народа — строителя коммунизма. Реализм же сводился к одной-единственной правде — установочно-нормированной, в соответствии с указами, директивами, решениями и постановлениями, отраженными в газетах, на телевидении и радио.
— Проба сериалиетического пера, — объяснил ей тогда полностью оторвавшийся от действительности и парящий в невесомости ее дорогой муженек, — в духе Штокхаузена… Он мне как-то ближе других, в нем сочетается и рациональное, и экспрессивное начало. Особенно интересна пестрота его полинациональной стилистики…
— Ну и ну, — сказала она, просмотрев клавир. — И что же делать с этими треугольниками, прямоугольниками и прочими фигурами? Как играть эти схемы, эту геометрию?
А он объяснил, что все не так уж сложно — на основе одного ряда цифр выдается гармоническая и мелодическая части, рассчитывается ритмика, варьируется громкость и т. д. И сыграл начало, которое она тут же назвала «иллюзорной музыкой точек и пауз». Ей сразу стало ясно, куда могут привести эти оторванность и парение. Нужно было срочно опускать его с высот на землю.
— Это, конечно, небезынтересно, необыкновенно выразительно и очень даже своеобразно, но где же играть такую авангардную музыку? У нас и за меньшее предают анафеме и отовсюду отлучают. И если все же осмелишься и место найдешь, учти — никто тебе тогда не поможет, сам знаешь, опальные санкции — не для слабонервных фантазеров. Надеюсь, к революционерам и бунтарям ты себя все-таки не причисляешь… Да и зачем тебе такая сомнительная слава? Мало, что ли, настоящей?
— Да ведь в творчестве вообще не все и не всегда поддается одной только логике и здравому смыслу, и музыка — не исключение… Пришло время, и она прорезалась спонтанно — наверное, просто вызрела…
— Знаешь, дорогой мой, спонтанность пусть вызревает в постели, но не в карьере, достигнутой не только одним талантом, но и многолетней продуманной стратегией и тактикой. И я не могу допустить, чтобы ты в одночасье взял и разрушил труды многих лет. Лучше не испытывай судьбу, а отложи-ка ты сей опус на потом… когда-нибудь придет время и для таких экспериментов…
— Когда-нибудь, когда рак на горе свистнет… Дорога ложка к обеду… да через некоторое время эта техника может просто потерять актуальность, устареть и стать просто очередным пройденным этапом, историей музыки, — с обиженным видом проворчал он и, взяв тетрадь, надолго исчез в кабинете, плотно закрыв за собой дверь…
Тогда он внял — уже готовое сочинение было задвинуто поглубже в стол.
И вот сейчас оказалось, что внял он — ненадолго. Втихую привезя симфонию с собой, он томился и не знал, как быть, но она видела, что ему очень хочется, чтобы ее услышали.
— Ты ведь даже не включен в программу.
— Пустяки. Даже лучше, что не включен в официальную программу — доносчики потеряют бдительность и пропустят мимо ушей. Караян говорит, что можно сыграть в заключение, сверх программы, сюрпризом.
— По-моему, на тебя просто нашло затмение, головокружение от успехов. Ты даже забыл, что нужны репетиции.
— Я не успел тебе сказать — сегодня уже была первая.
— Конспиратор, — сказала она. — И как?
— Этот оркестр способен на все…
— Я не о том! Как звучит музыка? Ты впервые слышал вещь целиком, в оркестровом исполнении…
— Ничего не хочу говорить… У тебя есть уникальная возможность — самой послушать ее завтра. Или — никогда.
— Инстинкт самосохранения говорит мне — не нарывайтесь, ведь все так хорошо. Но я вижу, что ты завелся. Скажу честно — не хочу участвовать в этой акции самосожжения.
— Я уже обещал Герберту…
— Не пори горячку, давай подумаем до завтра.
Заснуть она не смогла, потому что всю ночь он ворочался и вздыхал. Едва рассвело, он оделся и на цыпочках, думая, что она еще спит, направился к двери. Она взглянула на часы — было пять утра.
— Куда ты в такую рань? — спросила она.
— Ты поспи, а я немного погуляю, подышу и поразмышляю на тему: «Талантов много, духу нет».
Он печально посмотрел на нее и, нахохлившись, как мокрый воробей, закрыл за собой дверь.
«Как обычно, начинает обращаться к авторитетам и цитировать, когда его что-то сильно забирает», — с раздражением подумала она.
Далась ему эта «Мерцающая», ведь сам же говорил, что это — не его путь… но зачем-то же взял ее с собой, причем, что досадно, втайне от нее. Как будто не понимает, какая это лакомая кость для всей идеологической инквизиции, набросятся и порвут, живого места не оставят, и никакие дядюшкины охранные грамоты не спасут!
Нет, она должна надавить на него — для его же блага! Пусть дуется и дергается, это пройдет, она знает, как зарядить его энергией, но сейчас нужно быть твердой и удержать его от заведомой глупости!
Она попыталась заснуть, поставив будильник на восемь часов, но так и не смогла. Услышав звонок будильника, встала, приняла душ, привела себя в порядок и, одевшись, начала паковать вещи, готовясь к завтрашнему отъезду. Оставив только самое необходимое, она со злостью посмотрела на часы — через двадцать минут выезжать на репетицию, а его все нет и они еще не завтракали.
Написала ему записку — мало ли, вдруг разойдутся — и спустилась в ресторан.
Он сидел за столом с фон Караяном и главным организатором фестиваля — финским композитором Маркку Нихти. Увидев ее, эти двое тут же встали из-за стола и, приветственно помахав руками, вышли из ресторана.
«Удрали от меня, заговорщики… Черт возьми, его уже полностью захлестнуло и несет… Тоже мне — герой, идущий наперекор, на мою голову… впервые обошелся сам, без моей помощи — сумел объясниться на своем чудовищном английском!»
Она злилась на него, не понимая, что ее больше раздражает в этой истории — нависшая угроза или его неизвестно откуда взявшееся тупое упрямство.