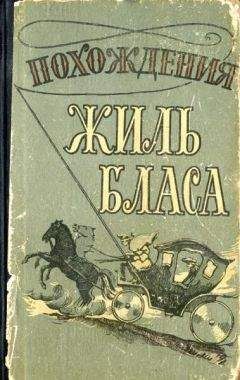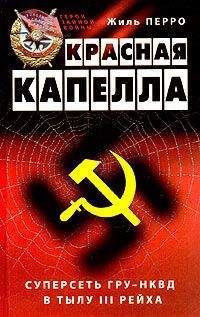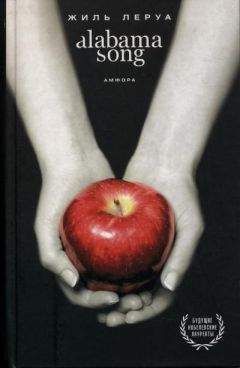Ален Лесаж - История Жиль Бласа из Сантильяны
Между тем наступило время идти домой, иначе говоря, утро: пришлось расстаться. Кларин последовал за доном Алехо, а я отправился с доном Матео.
Глава VI
Беседа нескольких сеньоров об актерах Принцева театра
В этот же день, во время утреннего туалета, господин мой получил от дона Алехо Сехьяра записку, в которой тот приглашал его зайти. Мы отправились к нему и застали там маркиза Дзенет-то и еще одного молодого сеньора приятной наружности, которого мне прежде видеть не приходилось.
– Дон Матео, – сказал Сехьяр, представляя незнакомца моему господину, – это мой родственник дон Помпейо де Кастро. Он почти с самого детства живет при польском дворе, а вчера вечером прибыл в Мадрид с тем, чтобы завтра же ехать обратно в Варшаву. Таким образом, он может посвятить мне только сегодняшний день; я хотел поэтому использовать как можно лучше столь драгоценное время и, дабы гость мой провел его с приятностью, счел необходимым пригласить вас и маркиза Дзенетто.
После этого мой господин и родственник дона Алехо обнялись и наговорили друг другу множество учтивостей. Я с удовольствием прислушивался к речам дона Помпейо, который показался мне человеком солидным и разносторонним.
Мы отобедали у дона Сехьяра, после чего эти сеньоры сели играть, чтоб позабавиться до начала спектакля. Затем они все вместе отправились в Принцев театр посмотреть дававшуюся там новую трагедию, которая называлась «Карфагенская царица». По окончании представления они вернулись ужинать туда же, где обедали, и между ними завязался разговор сперва о пьесе, которую они видели, а затем об актерах.
– Что касается трагедии, – сказал дон Матео, – то я ее не одобряю; по-моему, Эней там еще бесцветнее, чем в «Энеиде». Однако следует признать, что играли отменно. Как думает об этом сеньор дон Помпейо? Мне кажется, что он не разделяет моего мнения.
– Сеньоры, – возразил этот кавалер со вздохом, – я только что видел, как вы восхищались своими актерами и в особенности актрисами, а потому не посмею сознаться, что думаю о них иначе, чем вы.
– И хорошо сделаете, – шутливо перебил его дон Алехо, – вашу критику встретили бы у нас весьма неодобрительно. Соблаговолите относиться с уважением к нашим артисткам перед лицом глашатаев их славы. Мы пьянствуем с ними каждый день и ручаемся за их совершенства: если угодно, мы охотно дадим в этом письменное удостоверение.
– Нисколько не сомневаюсь, – заметил его родственник, – вы, как я посмотрю, так дружны с ними, что готовы поручиться даже за их нравственность и поведение.
– Значит, ваши польские актерки много лучше? – спросил смеясь маркиз Дзенетто.
– Безусловно, – возразил дон Помпейо. – По крайней мере, там имеется несколько совершенно безукоризненных актрис.
– И эти, разумеется, могут рассчитывать на ваши удостоверения? – обратился к нему маркиз.
– Я с ними не знаюсь, – отвечал дон Помпейо, – и не принимаю участия в их кутежах, а потому могу судить беспристрастно. Но, говоря серьезно, – добавил он, – неужели вы считаете, что у вас хорошая труппа?
– Да нет же, – возразил маркиз, – я этого не думаю и буду защищать только нескольких актеров, а от прочих отступаюсь. Но не согласитесь ли вы с тем, что актриса, исполнявшая роль Дидоны[71], восхитительна? Разве не изобразила она эту царицу исполненной благородства и приятных качеств, которые мы обычно связываем с ее образом? Неужели вы не восторгались ее искусством приковывать внимание зрителя и заставлять его переживать движения тех страстей, которые она изображала? Про нее можно сказать, что она овладела всеми вершинами декламации.
– Я согласен с вами в том, что она умеет пронять и взволновать зрителя, – сказал дон Помпейо. – Ни одна актриса не играет с такой задушевностью, как она, и действительно, это прекрасное исполнение; однако же и ее нельзя назвать безупречной. Два или три места в ее игре подействовали на меня неприятно. Желая выразить удивление, она неестественно закрывает глаза, что вовсе не пристало царице. Добавьте к этому, что, заглушая голос, который у нее от природы нежен, она портит эту нежность и басит довольно неблагозвучно. К тому же, как мне показалось, в нескольких местах пьесы ее можно заподозрить в недостаточном понимании того, что она говорит. Предпочитаю, впрочем, отнести это за счет ее рассеянности, нежели обвинять ее в недостатке ума.
– Насколько я вижу, – сказал тогда дон Матео критику, – вы не стали бы слагать стихи в честь наших комедианток.
– Простите, – возразил дон Помпейо, – но я обнаружил у них сквозь недостатки также и немало таланта. Скажу даже, что я в восторге от актрисы, игравшей наперсницу в интермедиях[72]. Какая естественность! С какой грацией она держит себя на сцене! Когда ей по роли приходится отколоть какую-нибудь шутку, она сопровождает ее лукавой и очаровательной улыбкой, которая усиливает пикантность. Ее можно было бы, пожалуй, упрекнуть в том, что она иной раз переигрывает и переходит границы дозволенной смелости, но не надо быть чересчур строгим. Мне хотелось бы только, чтобы она исправилась от одной дурной привычки. Часто посреди представления, в каком-нибудь серьезном месте, она вдруг нарушает ход действия и разражается смехом, от которого не может удержаться. Вы мне скажете, что публика аплодирует ей даже и в такие моменты, но, знаете ли, это ее счастье.
– А какого мнения вы о мужчинах? – прервал его маркиз. – Если вы не пощадили женщин, то на тех, наверное, не оставите живого места.
– Нет, – сказал дон Помпейо, – я обнаружил несколько молодых многообещающих артистов, и особенно понравился мне тот толстяк, который играл роль первого министра Дидоны[73]. Он декламирует весьма естественно, именно так, как польские артисты.
– Если вы остались довольны толстяком, – заметил дон Сехьяр, – то тем более должны быть очарованы тем, который представлял Энея. Вот большой талант и оригинальный артист, не правда ли?
– Действительно оригинальный, – возразил критик, – у него своеобразные интонации и к тому же такие, которые ужасно режут слух. Он играет ненатурально, скрадывает слова, содержащие главную мысль, и напирает на остальные; ему даже случается делать ударение на союзах. Он очень меня позабавил, в особенности когда объяснял своему наперснику, как ему тягостно расстаться с царицей: трудно выразить скорбь комичнее, чем он это сделал.
– Постой, кузен! – прервал его дон Алехо. – А то как бы мы под конец не подумали, что хороший вкус неизвестен при польском дворе. Знаешь ли ты, что актер, о котором мы говорим, редкостное явление. Разве ты не слыхал, как ему рукоплескали? Это доказывает, что он не так уж плох.
– Это ничего не доказывает, – возразил дон Помпейо и добавил: – Сеньоры, не будем говорить об аплодисментах публики: она нередко расточает их весьма некстати и даже чаще рукоплещет бездарностям, нежели настоящим талантам, как передает о том Федр в одной остроумной басне[74]. Позвольте мне рассказать ее вам. Так вот. Все жители одного города высыпали на главную площадь, чтоб посмотреть на представление пантомимов. Среди этих лицедеев был один, которому ежеминутно аплодировали. Под конец надумал этот гаер закончить зрелище новой шуткой. Выйдя один на сцену, он наклонился, прикрыл голову плащом и принялся визжать по-поросячьи. И так хорошо это выходило, что зрители вообразили, будто у него под платьем действительно спрятан поросенок. Ему стали кричать, чтоб он вытряхнул плащ и одежду. Гаер послушался; но так как никакого поросенка не оказалось, то собравшиеся принялись аплодировать ему еще яростнее. Один крестьянин, присутствовавший в числе зрителей, был раздосадован этими выражениями восторга. «Господа, – воскликнул он, – вы напрасно так восхищаетесь этим гаером: он вовсе не такой хороший актер, как вам кажется. Я лучше его подражаю поросенку; а ежели вы в том сомневаетесь, то приходите сюда завтра в тот же час». Народ, расположенный в пользу пантомима, собрался на следующий день еще в большем числе, скорее с намерением освистать крестьянина, нежели для того, чтобы удостовериться в его умении. Оба соперника вышли на сцену. Гаер начал, и ему хлопали еще усиленней, чем накануне. Тогда крестьянин нагнулся в свою очередь и, прикрываясь плащом, принялся дергать за ухо живого порося, которого держал под мышкой, отчего тот завизжал самым пронзительным, образом. Между тем зрители продолжали отдавать предпочтение пантомиму и встретили гиканьем крестьянина, который неожиданно показал им поросенка.
«Господа, – крикнул он им, – вы освистали не меня, а самого поросенка. Нечего сказать, хороши судьи!»
– Кузен, – сказал дон Алехо, – ты своей басней несколько хватил через край. Однако, невзирая на твоего поросенка, мы не отступимся от своего мнения. Но побеседуем о чем-нибудь другом, – продолжал он, – мне надоело говорить о комедиантах. Неужели ты все-таки завтра уедешь, несмотря на мое желание удержать тебя здесь еще на некоторое время?