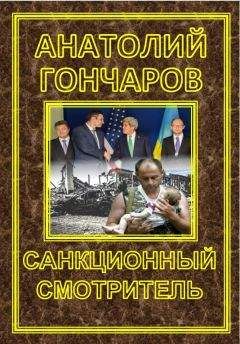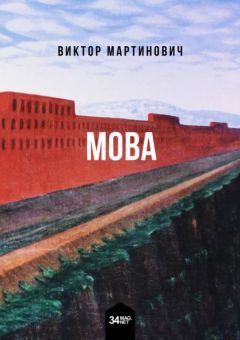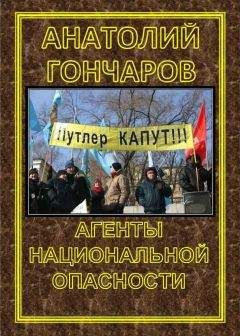Виктор Мартинович - Мова
Грянул орган. Я дернулся от неожиданности. Я не знал, что тут сохранился инструмент. И не знал, что она умеет на нем играть, потому что, кажется, во всей России сейчас не найти человека, который умеет управляться с этой штуковиной. Аля выдала несколько пробных аккордов, и храм подхватил их. Звук стал настолько плотным, что его, казалось, можно потрогать.
Вступление состояло из ряда мелодических шагов, которые напоминали лестницу с пропущенными пролетами. Любая органная музыка в храме – это лестница в небеса, вопрос только в том, способен ли ты по этой лестнице подняться.
И тут она запела. Эта ее песнь была чем-то таким, что происходило только между ней и храмом, а, может быть, и мной, хотя я там был лишь случайным свидетелем. Я сразу понял две вещи. Во-первых, она пела исключительно для самой себя. Ее песнь несла нечто подобное тому, что происходит, когда люди зажигают палочки благовоний перед Буддой и Рамой. Или когда покупают отпущение грехов в храмах-бутиках. Она не пыталась произвести на меня впечатление или даже рассказать о своем культе. Просто пела. Во-вторых, я внезапно понял, что для нее мова – это Беларусь, и она же – ее Бог. И это никак не объяснишь, кроме как с помощью звуков ее песни и игры на органе в заброшенном храме. Потому что дурак, который не знает, что такое Беларусь, обожествляет сумочку из храма-бутика Hermes и не может двух слов связать на мове, по-другому не поймет.
Это было так искренне и интимно, что я не буду описывать воздействие, которое на меня оказала мелодия… Потому что, знаете, я слишком сентиментальный… И к тому же не очень удобно писать, когда на клавиатуру льются слезы и сопли. Просто напомню слова из той, как она выразилась, вещицы. Слова там были такие:
«Магутны Божа! Ўладар сусветаў,
Вялікіх сонцаў і сэрц малых.
Над Беларусяй, ціхай і ветлай.
Рассып праменне Свае хвалы».[39]
И вот эти слова про «праменне свае хвалы» меня особенно впечатлили. Я представлял себе, как в плотной череде туч, бывает, промелькнет прогалина, а из нее ударит луч солнца, и покажется, что там, на небесах, среди облаков и голубого великолепия, живут счастливые и чистые души. Я плакал, когда она спустилась. Мне было стыдно, потому что мужики не плачут. Она стала рядом и, деликатно отвернувшись, сказала: — Теперь вижу, что понял. Подняла голову, посмотрела на арки над нашими головами. Прислонилась к стене. Каждое движение ее тела сопровождал каскад звуков, эхо затухающих шорохов. — Знаешь, почему мы боремся за слова? – спросила она. — Потому что когда исчезнут они, исчезнет и Беларусь? — Беларусь уже исчезла, – покачала она головой. – Тут дело в другом. Мова – это этика. Это наше исконное понимание того, что есть добро, а что есть зло, зашифрованное в словах. Ты видишь, как тут все? Через какое место? Причем, заметь, так было всегда. Как только находился достойный человек, его всегда рьяно «привлекали к ответственности». Свои же, не чужие. Черное – это белое, белое – это черное. Палачи, именами которых до сих пор названы улицы. Пельмени «Петровские» и каша «Суворовская». Памятник Дзержинскому. Люди, которые не могут отличить подвига от преступления. И тут же рядом — филоматы и филареты, Калиновский. — И как это связано со словами? – спросил я, потому что не знал, кто такие эти филареты. — Самым непосредственным образом, – она вздохнула. – На мове говнюк назывался говнюком. Пришли другие языки, где много новых слов. Люди растерялись. И в этой растерянности живут до сих пор. Дай людям слово, и они вспомнят, что такое добро.
Она снова замолкла. Потом подошла ко мне, прижалась щекой к моей груди и прикоснулась рукой к волосам у меня на затылке. — Мы никогда не будем вместе, – сказала она без всякой связи с теми вещами, о которых мы рассуждали до этого. – Никогда, Сергей.
У меня перехватило дыхание. Я поднял руку, чтобы обнять ее, но она уже отошла и быстрыми шагами спускалась по лестнице, ведущей к выходу из храма. Щелк — и свет за окнами погас, оставив после себя лишь воспоминание о лучах божественной милости, рассыпанной над облаками. Мы никогда не будем вместе.
Джанки
Я какое-то время не заглядывал к своему голубоглазому барыге-Дрыщу, потому что возникли временные траблы с денежно-кредитным балансом, и мне нечего было есть. Не рассчитал с паузами в занятости, с любым Диогеном может случиться. Неделю жил на двадцать юаней – завтракал яблоками, ужинал украденным в ларьках шоколадом. Еще месяц такой жизни, и я всерьез бы рассмотрел перспективу приобретения плиты. Чтобы запекать картошку в углях, или что они там готовили, когда были «семьи» и люди питались тем, что приготовили самостоятельно.
Потом я съездил в Смолевичи, стырил там планшет в «Седьмом элементе» — я так и знал, что на окраинах секьюрити менее бдительное, чем в центре Минска. К тому же я и сам работал охранником и хорошо знаю, как снимаются аларм-фишки и как нужно одеваться, чтобы на тебя не обращали внимания. Планшет я хорошо загнал цыганам: двести юшек, сто можно оставить на еду, а за сто купить два свертка. Или даже три свертка и пятьдесят на еду. Как говорит Писание: будьте, как птицы небесные, не думайте о питании, предоставьте это богу.
«Хочешь у нас работать?» — спросила солидная цыганка, которая вынесла мне деньги. Колец на ее пальцах хватило бы на то, чтобы заполнить витрину в китайской ювелирной лавке. Отличие только в том, что они были из настоящего золота, а не из поддельного. Вот же жизнь пошла – никто, кроме цыган, не носит настоящего золота. «Хорошая работа есть, сумками торговать на Ваупшасова, – предлагала она. – Сумки не краденые, не краденые! Сами шьем, дочка моя шьет. В «Беларуси» фурнитуру берем и шьем. Хорошие сумки. Менты почти не гоняют». Я отказался. Торговать сумками у цыган – это не совсем та работа, которая подошла бы Диогену.
Так вот, я пришел к Барыге, а у него – новая дверь. И весь подъезд перекрашен. Думаю, ничего себе. В Зеленом луге уже начали подъезды красить! Может, революция в стране? И теперь быдло с Зеленого луга у власти?
Я позвонил, он открыл, смотрю я на эту новую дверь. А там – зайчик ты мой! — миллиметровая сталь, блокировка от взлома, закрытые петли, испанский замок! И открываются они с таким респектабельным шумом, будто за ними – золотой запас республики Конго, не меньше. — Ничего себе! – говорю. – Зачем тебе такая дверь?
А он голову в щель просовывает, как всегда, а шея у него худая, как у цыпленка. Ну говорю же, Дрыщ! Сейчас спросит: «Сколько?». Но он вместо «сколько?» смотрит на меня какое-то время, потом говорит, как-то несколько замогильно: — А, это ты. — Ну, говорю, я. А ты кого ждал? Саму Элоизу? Или Брюса Ли? Давай, спрашивай свое «сколько?». Мне три давай! Или даже лучше четыре. Давай четыре за двести. За двести – нормально? — Слушай! – он виновато почесал голову. – Я больше не торгую. — Что значит не торгуешь? – удивился я. — Ну вот так. Не торгую! — А чем ты теперь занимаешься? Чем ты нахрен занимаешься, если не торгуешь? – я рванул на себя дверь, но у него, представьте себе, оказалась цепочка. Нет, вы представляете, как чувак на мои деньги упаковался? Стальную цепочку завел от нежелательных посетителей! Таких, как я! Чтобы нас на порог не пускать! — Я ничем сейчас не занимаюсь, – объяснил он спокойно и виновато. – Я бы продал тебе! Но у меня нет. Ничего нет. — Как нет? – все не мог поверить я. — Вот так. У меня на квартире сейчас ничего нет. И ближайшие полгода не будет. А может, и дольше. Может, я вообще завяжу. — А что делать мне? – спросил я зло. – Вот поднял «Седьмой элемент» в Смолевичах. Он повторил: — У меня нет. Просто нет. Прости.
И, значит, всунул внутрь свою башку и дверь передо мной закрыл. Я в расстроенных чувствах пошел вниз. Что мне теперь делать? Намыливаться к китайцам в чайна-таун? Так там другие цены, там мне выкатят семьдесят за сверток, в самом лучшем случае продадут три за двести, а тут можно было и все четыре взять… Что же делать, что делать?
Я шел настолько углубленный в свои мысли, что не сразу заметил стандартный спецслужбистский «Опель». Через секунду после того, как я его засек, вокруг меня уже стояло три человека в одинаковых дубовых костюмах с отливом, а четвертый снимал меня на видеокамеру. Отмотаем назад: за секунду до этого я иду, думаю о том, где купить сверток. Светит солнце, слева от меня – плотный транспортный поток. Потом – за одно мгновение – я замечаю «Опель». «Опель» унылого, как зубная боль, серого цвета с металликом. В тот же миг, в тот же удар сердца, без всякого «одну минуточку, молодой человек!» — без всего того, как мы представляем себе наш возможный арест, тебя обступают четыре оперативника, один из них – с камерой, и я в полной жопе. Не покупайте наркотики, дети. Никогда. У человека напротив был очень уж узнаваемый пельмень вместо лица. — Добрый день, – этим приветствием он как бы говорил мне: стоять, не двигаться, руки перед собой. – День добрый, – повторил он. – А что ты так перепугался? – он хлопнул меня по левому плечу. — Я не испугался, – сказал я, остолбенев. — Ну как не испугался. Я же вижу, – он снова меня хлопнул. — Я не испугался, – повторил я. — Ну не испугался, так не испугался, – сказал он и отдал команду оператору. – Давай, включай запись, – тот что-то нажал на камере. – Старший оперативный уполномоченный Госнаркоконтроля Новиков. Покажите, что у вас в карманах. Тут до меня дошло, и я счастливо рассмеялся ему в лицо. — Ничего у меня в карманах нет, старший оперативный уполномоченный Госнаркоконтроля Новиков! – крикнул я. – Ничего! Слышите! Барыга больше не торгует! — Вот этот карман продемонстрируйте, — кивнул он на левую полу моей весенней куртки.