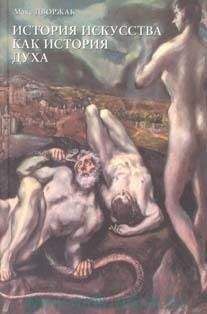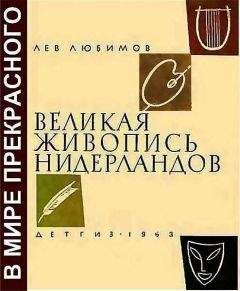Терри Дюв - Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность
Дальнейшая история обнаруживает это столкновение тенденций с примечательным постоянством. На всем протяжении общей для них модернистской эволюции архитекторы, живописцы и, в особенности, дизайнеры будут яростно отрицать, что являются художниками, настаивая в то же время на самых высоких творческих привилегиях — на праве создавать новое, формировать новый язык, строить новую культуру, закладывать в основание общественного договора суждение вкуса, обобщенное для всей возводимой среды. Призванием Gestaltung31 будет расширение сферы действий и требований художника на все социальное тело, от кофейной чашки до территориального планирования, невзирая на исчезновение его ремесла и самого статуса. Такова противоречивая идеологическая программа, которую с незначительными вариациями мы встретим во всех разновидностях функционалистского проекта. Ее явственной печатью отмечен, помимо дюшановского, еще целый ряд «отказов» от живописи — например, у Родченко. Ее от съезда к съезду повторял CIAM , пока не оказался расколот внутренними противоречиями. И, наконец, в 1920-х годах борьба ее несовместимых составляющих достигла предельной остроты в конфликтах Гропиуса и Ханнеса Мейера в Баухаузе или супрематистов и производственников во Вхутемасе.
Поэтому в 1912 году любой иностранец, столкнувшийся с «Kunstgewerbe», быстро отметил бы для себя узел противоречия, который при взгляде изнутри оставался скрыт в хитросплетениях актуальной полемики. В самом деле, складывается впечатление, что Дюшан, который как раз и был таким иностранцем, прикоснулся к чистому факту, не поддающемуся диалектизации несмотря на любые усилия по разрешению противоречия. С одной стороны, ремесленник и вместе с ним художник-живописец оказались осуждены на экономический упадок вследствие индустриализации ручного труда и на культурную маргинализацию вследствие растущих требований промышленной культуры. С другой стороны, притязанию промышленности на определяющую роль в культуре не могло не сопутствовать соотнесение в сознании, каким бы оно ни было, ее чистой творческой энергии с той или иной традицией. Функционалистским «разрешением» этой дилеммы—-от Морриса до Гропиуса и далее — явилась история поначалу медленного и робкого, а затем наигранно триумфального признания смерти ремесленника, а вместе с ним и живописи. Другим вариантом стал питаемый иллюзией чистого листа фантазм передачи всей полноты власти художника-ремесленника прошлого новому творцу-проектировщику, фантазм совокупного и почти моментального трансфера всего богатства старой, усопшей ныне, традиции грядущей культуре, своей традиции еще не имеющей. Растворение старых различий между ремеслами в идеологической общности Gesamtkunstwerk, не смеющего назвать себя именем Kunst39, требует сознания, которое по-нимало бы, что там, где непосвященный видит лишь смерть и убийство, на самом деле происходит трансфер и передача власти; оно требует памяти, которая могла бы различить в пустоте, оставшейся на месте всего отвергнутого новой эстетикой, высочайшее уважение к упраздненной отныне традиции. Пионеры функционализма считали себя носителями этих сознания и памяти и жаждали безотлагательно передать их массам. Вот почему все они без исключения были прежде всего педагогами, своей первоочередной задачей считавшими ликвидацию пластической безграмотности. Но они стремились воздействовать на общество и, следовательно, на «реальное», упорно отрицая план символического, в котором разворачивалась их деятельность. Подчеркивая, что «форма повинуется функции» и что функция утилитарна, эргономична, «реальна», они отрицали свое собственное вмешательство в эту форму, вселяя иллюзию механического перехода реальности употребления в реальность формы. Таково было их заблуждение, их идеология, проявление их воображаемого. Тогда как их практика свидетельствует о другом — о том, что форма, соответствующая своей функции, есть не что иное, как символ самого этого соответствия. Отрицая это в теории, функционалисты не оставили себе возможности реальной ликвидации безграмотности, реального насаждения культуры. Ведь если бы социальной целью функционализма и впрямь было создание новой культуры, то, чтобы рассчитывать на успех, нужно было бы признать, что планом его реальности является символическое: сознание, память, пространственность социального тела и темпораль-ность истории. Не осознав, что творчество создает культуру лишь со временем, «с учетом всех отсрочек», в возвратном движении символического признания, функционалисты потерпели неудачу.
Оборотная сторона этой неудачи — успех реди-мейда. Складывается впечатление, что Дюшан, который наверняка и не задумывался о разрешении противоречия Kunstgewerbe или функционализма, попал точь-в-точь в их слепое пятно. Реди-мейд выявляет именно то, что функционализм отрицает,—функцию имени. Дюшан выбирает промышленный объект, перемещает, обессмысливает его, и тот теряет всю свою утилитарность, всю эргономичную пригонку формы к функции, но в этот же самый миг приобретает функцию чистого символа. И этот символ — единственное, что может связать с традицией, которая признана мертвой, ожидаемую ценность культуры, находящейся в самом начале своего становления. С одной стороны, реди-мейд не принадлежит к ремесленной традиции, не ищет примирения ремесленника и художника, изготовителя и творца. Но, не принадлежа к ней, он высказывает ее, выступает символом этой непринадлежности, материальным удостоверением смерти ремесленника. С другой стороны, он принадлежит индустрии, но не ищет примирения художника-ремесленника и дизайнера-ин-женера. Никакой художник не создал этот объект своими руками и ни один дизайнер его не спроектировал. Надо полагать, какой-то рабочий его изготовил, а какой-то инженер разработал, но сделанное ими не может претендовать на какую-либо культуру, помимо технической. И, как бы то ни было, поскольку реди-мейд принадлежит индустрии, он ее высказывает и выступает символом этой принадлежности, материальным свидетельством индустриальной культуры.
Фантазм чистого листа, повторю, Дюшану не свойствен. Нет оснований думать, что он считал себя воплощением сознания и памяти об исчезнувшей традиции или что реди-мейд обозначал для него передачу власти от живописца, коим он был, проектировщику, коим он будет. Сознание и память он намеренно оставляет на долю зрителей, «которые создают картины». Пусть потомки скажут, принадлежит писсуар культуре или нет, ему это неважно. Но он приберегает для себя чистую символическую функцию, именующий искусство speech act40. Для него важно имя, договор, который будет объединять будущих зрителей вокруг какого угодно объекта — вокруг объекта, который не вписывается в искусственную окружающую среду и не улучшает ее, но, наоборот, отгораживается от нее, не имея иной функции, кроме как быть чистым означающим, договором как таковым.
Будучи в Мюнхене, Дюшан всего этого еще не знает. Реди-мейд не просто возникнет позже, но будет признан, назван реди-мейдом, еще позже. Однако почему мы должны считать, что реди-мейд явился результатом некоего осознания, тогда как все говорит о том, что он «вышел» из символического прорыва и воплощает явление означающего в чистом виде? При том что означающее «глупо», как и живописец. Хотя оно есть имя как таковое, оно не имеет имени. Понимание того, что имя открывает, приходит позже, когда анализируют его резонанс. В зависимости от выбранного резонатора, мы попадаем тогда в клиническое поле «человека страдающего» или же в эстетико-историческое поле «творящего духа». Я попытался уделить как можно большее внимание последнему, ибо именно в нем означаю-щее-Дюшан оказывается «умным». В нем означающее обретает имя, а именно имя искусства, живописи. Но в то же самое время остается именем имени, именем в своей автонимии: искусство искусства, живопись живописи. Такова особенность вклада Дюшана в культуру: он будет понятен лишь тем зрителям, которые постфактум будут создавать картины. То, что в его мюнхенской практике никаких признаков подобного вклада мы не найдем, и то, что идея критики тупика Kunstgewerbe никогда не посещала его, ничего не доказывает. Речь, напомню, идет (тем более что мы не знаем всего, что делал Дюшан в Мюнхене) лишь о реконструкции среды, климата, для которых, как выяснилось позже, он оказался превосходным резонатором.
Чтобы не поддаться заблуждению, нам вновь следует опереться на историю, понимаемую как поле возможностей. Эволюция Kunstgewerbeschulen является историческим фактом. В 1912 году учащихся направляют в них одновременно к «чистому» искусству и к оторванной от искусства практике Gestal-tung— одновременно к романтическому по сути статусу свободного художника, незаинтересованного индивидуалиста, и к «технократическому» статусу проектировщика, интегрированного в систему экономических императивов. Я соотнес положение Дюшана с точкой пересечения двух этих противоположных тенденций, представив его человеком, который, придя извне, мог воспринять, увидеть узел противоречия. Важно показать, что Мюнхен предоставил ему возможность такого «восприятия». Предполагать, что Дюшан лично посетил какую-либо Kunstgew-erbeschule, нет оснований; вероятность этого крайне мала. Но он наверняка получил сведения о Kunstgewerbe из другого источника. С мая по октябрь 1912 года в Мюнхене проходила колоссальная «промышленная выставка». Или правильнее сказать «выставка промышленного искусства»? Или «ремесла»? Или «мануфактурная выставка»? Так или иначе, называлась она Gewerbeschau — то есть выставка ремесел, но не художественных,—и располагалась в нескольких павильонах, вмещавших невероятное множество изделий, как художественно-ремесленных (керамика, эмали, стекло), так и промышленных (мебель, конфекцион, столовый и кухонный инвентарь). В плане организации выставка следовала образцу торговой ярмарки: огромные залы были разделены перегородками на стенды, под потолком развевались вымпелы и гирлянды, на тумбах, столах и витринах различной формы громоздились всевозможные товары. Это была самая настоящая коммерческая ярмарка в немецкой традиции Jahrmarkte, но посвященная исключительно баварской художественной промышленности. На ней можно было сделать заказ и даже приобрести товар.