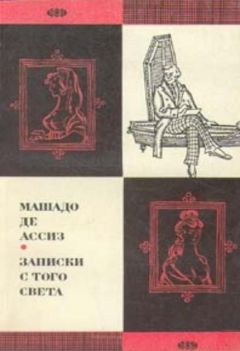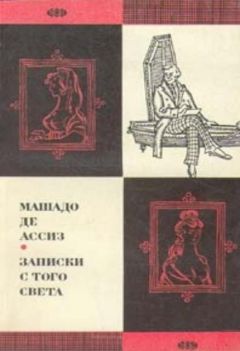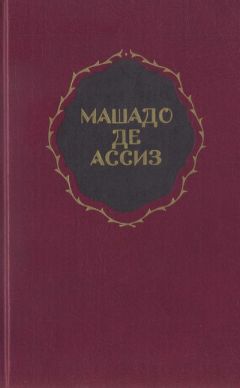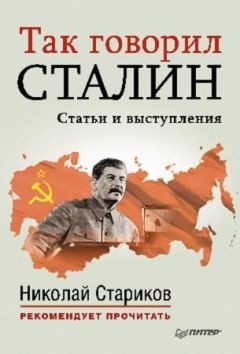Машадо Ассиз - Записки с того света (Посмертные записки Браза Кубаса) 1974
Видя все это, я не смог сдержать стона, а Природа, или Пандора, не проронила ни единого слова и не улыбнулась, тогда как сам я, подчинись какому-то закону безумия, разразился судорожным идиотским смехом.
— Ты права,— сказал я,— на это стоит посмотреть; забавно, хоть, пожалуй, и однообразно. Когда Иов призывал смерть, он хотел, видимо, отсюда, сверху, взглянуть на этот спектакль. Будь добра, Пандора, разверзни чрево и поглоти меня; все, что я вижу, чрезвычайно забавно, но все-таки поглоти меня.
Вместо ответа она принудила меня смотреть, и опять перед моими глазами с головокружительной скоростью замелькали века, поколения сменялись поколениями, они рождались то скорбными, будто евреи в плену египетском, то буйно веселыми, как приспешники Коммода[20], и все они в точно назначенный час сходили в могилу. Я хотел бежать, но непостижимая сила удерживала меня на месте, и я сказал себе: пусть века идут, придет и мой, придет и последний, и мне откроется загадка вечности. И я вперил взгляд в чреду эпох, которые возникали и исчезали, но теперь я смотрел спокойно, уверенно, может быть, даже весело. Каждый век приносил мрак и свет, мир и войну, у каждого были свои истины, свои заблуждения, и целая свита новых систем, новых идей, новых иллюзий; в каждом распускалась зелень весны, которая затем желтела, чтобы снова зазеленеть. Так в календарно размеренном ходе жизни создавалась история и цивилизация, голый, безоружный человек одевался, брал в руки топор, строил хижины и дворцы, жалкие деревушки и стовратные Фивы, творил пытливую науку и возвышенное искусство, становился оратором, философом, разъезжал по всему свету, спускался в подземное царство, поднимался под облака, внося свой вклад в поразительную деятельность, вызванную потребностью жить и страхом смерти.
Наконец мой рассеянный, исполненный грусти взгляд различил наш век, а вслед за ним и будущее. Наш век казался проворным, самодовольным, предприимчивым, всезнающим, несколько, впрочем, неясным и таким же стремительным и однообразным, как и все предыдущие. Я удвоил внимание и напряженно всматривался; сейчас я увижу последний век — последний! Но я ничего не смог разобрать, он промчался с бешеной скоростью; в сравнении с ней вспышка молнии длится столетие. Все исказилось: кое-что стало огромным, кое-что очень маленьким, некоторые вещи исчезли совсем; туман скрыл все, кроме привезшего меня бегемота, но вот и он начал становиться все меньше, меньше, меньше, пока не достиг размеров кота. Да, это действительно кот! Я вгляделся: это мой кот Султан играл у дверей спальни комком бумаги...
Глава VIII
РАЗУМ ПРОТИВ БЕЗУМИЯ
Читатель, наверное, понял — мой Разум возвращался в свой дом и предлагал Безумию удалиться, справедливо обращая к нему слова Тартюфа: «La maison est a moi, c’est a vous d'en sortir»[21]
Таков уж каприз Безумия — по душе ему чужие покои, и выгнать его нелегко; не идет он из чужого дома; совести у него давно нет. Если мы подумаем об огромном количестве домов, занятых им на более или менее длительный срок, то вынуждены будем прийти к выводу, что наш любезный странник — истинный бич домовладельцев. Во всяком случае, в дверях моего мозга дело чуть было не кончилось дракой, ибо пришелец не желал покинуть дом, хозяин же не отступал от намерения вернуть свою собственность. Наконец Безумие пошло на уступки, прося оставить ему хотя бы уголок на чердаке.
— Ну нет,— ответил Разум,— с меня достаточно, теперь я научен горьким опытом и знаю, что с чердака вы попытаетесь перебраться в столовую, оттуда в гостиную и так далее.
— Разрешите мне побыть еще хоть немного, я хочу разгадать тайну.
— Тайну?
— Даже две,— поправилось Безумие.— Тайну жизни и тайну смерти; я прошу у вас всего десять минут.
Разум расхохотался;
— Ты неисправимо... ты все то же... все то же...
Говоря это, он схватил Безумие за руки и выволок его за дверь; потом вошел в дом и заперся. Безумие стонало еще какие-то мольбы, бормотало угрозы; однако скоро и ему надоело. Оно насмешливо высунуло язык и пошло своей дорогой.
Глава IX
ПЕРЕХОД
Посмотрите, как ловко и как искусно я перейду теперь к основным событиям этой книги. Мой бред начался при Виржилии; Виржилия была великим грехом моей молодости; молодость не бывает без детства; детство предполагает рождение. Вот мы и дошли до 20 числа октября месяца 1805 года, то есть дня, когда я родился. Видите? Как все просто, и ничто не отвлекает неторопливого внимания читателей. Да, в своей книге я использовал все преимущества старого метода, но пренебрег его излишней педантичностью. Пора поговорить о методе. Слов нет — метод необходим, но давайте оденем его попроще, эдак посвободнее, понебрежнее, пусть он ходит без галстука и подтяжек, легко, по-домашнему; ему нет дела ни до соседки, ни до квартального надзирателя. Метод — все равно что красноречие. Бывает красноречие естественное, непринужденное, вдохновенное, внушенное чарами истинного искусства, а бывает другое — парадное, пустое, натянутое. Итак, 20 октября.
Глава X
В ЭТОТ ДЕНЬ
В этот день на древе рода Кубас расцвел прелестный цветок. Родился я; меня приняла Паскоала, знаменитая повивальная бабка из провинции Миньо, открывшая, по ее словам, врата этого мира целому поколению фидалго[22]. Весьма возможно, что отец мой слышал ее слова; однако думаю, что не они, а родительские чувства заставили его поблагодарить повитуху двумя золотыми полудублонами. Меня выкупали, спеленали, и я стал героем нашего дома. Какое только будущее мне не предсказывали! Дядя Жоан, пехотный офицер, находил, что у меня взгляд Бонапарта, чего отец мой не мог спокойно слышать; дядюшка Илдефонсо, тогда еще простой священник, прочил меня в каноники.
— Он будет каноником,— я не говорю о большем, чтобы не прослыть гордецом; но я отнюдь не удивлюсь, если господь вверит ему епископство... да, да, епископство; вполне возможно. Как ты думаешь, братец Бенто?
Отец отвечал, что я буду тем, кем пожелает сделать меня всевышний, и высоко поднимал меня, словно хотел показать всему городу и всему миру; он поминутно у всех спрашивал, похож ли я на него, умен ли, красив ли...
Я пишу с чужих слов, мне рассказывали об этом несколько лет спустя; многих подробностей того славного дня я не знаю. Можно, однако, с уверенностью сказать, что соседи приходили с поздравлениями или присылали слуг и что в первые недели дом наш был полон гостей. Ни один стул не оставался свободным; из сундуков были вытащены парадные панталоны и сюртуки. И если я стану перечислять все поцелуи, все ласки, все благословения и восхищения, то мне никогда не закончить этой главы. А ее пора кончать.
Я не смогу подробно описать своих крестин, мне мало о них рассказывали; знаю только, что это был один из самых пышных праздников следующего, 1806 года; крестили меня в храме Сан-Домингос, во вторник, в марте месяце, в светлый чистый сияющий день. Моими крестными родителями были полковник Родригес де Матос и его супруга; оба они происходили из старинных знатных семейств севера Бразилии, и оба были действительно благородны, как благородна была и кровь, текшая в их жилах; их предки проливали ее во время войны с Голландией[23]. Помнится, эти имена я выучил одними из первых; наверное, я очень мило их коверкал, потому-то меня и заставляли повторять их перед знакомыми, демонстрируя, видимо, мое раннее развитие.
— Душенька, скажи господам, как зовут твоего крестного.
— Крестного? Его превосходительство сеньор полковник Пауло Ваз Лобо Сезар де Андраде-и-Соуза Родригес де Матос; а крестную — ее превосходительство сеньора дона Мария Луиза де Маседо Резенде-и-Соуза Родригес де Матос.
— Какой умненький мальчик! — восклицали слушатели.
— Умненький,— соглашался отец, расплываясь в счастливой улыбке, и гладил меня по головке, глядя на меня долгим влюбленным взглядом. В такие минуты он бывал чрезвычайно доволен собой.
Я начал ходить, не знаю точно когда, но, во всяком случае, гораздо раньше, чем другие дети. Наверное, помогая природе, мои родители заставляли меня делать первые шаги, уцепившись за стулья или за подаренную для этой цели деревянную тележку. «Иди, душенька, иди»,— уговаривала меня нянька, придерживая за платьице, в то время как матушка трясла передо мною погремушкой. И я шел, привлеченный дребезжанием, плохо ли, хорошо ли, но шел; и потом уже ходил всю жизнь.
Глава XI
МАЛЬЧИК — ОТЕЦ МУЖЧИНЫ
Я вырос; семья не принимала в этом особенного участия. Вырос стихийно, естественно, как растут магнолии или кошки, с той лишь разницей, что кошки уступали мне в лукавой изобретательности, а магнолии — в подвижности. Поэт назвал мальчика отцом мужчины. Что же я был за мальчик?