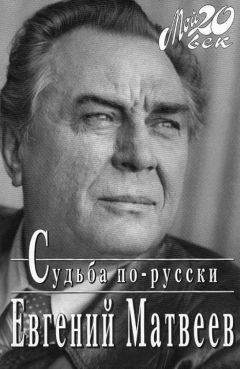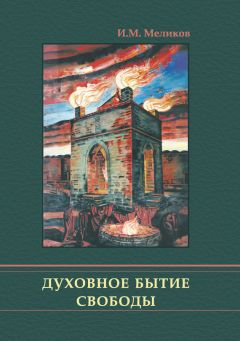И. Халатников - Дау, Кентавр и другие
Все в том же сентябре 1940 г. я сдал еще три экзамена. Потом я приезжал к Ландау второй раз, это было уже в феврале сорок первого года, и сдал еще четыре экзамена. Ландау порекомендовал мне поступать в аспирантуру, и тут же дал мне письмо. Оно начиналось словами: «Товарищу Халатникову..» Это было письменное приглашение в аспирантуру, и я имел в виду этой же осенью поехать в Москву учиться к Ландау. Но — было не суждено. Последний выпускной спецэкзамен по теорфизике в Днепропетровском университете я сдал в субботу, в июне. Помню, мы сидели с моим доцентом на лавочке на бульваре проспекта Карла Маркса, и я сдавал ему этот экзамен. Это было двадцать первого июня 1941 г.
А утром по черному радиорупору, которые, совершенно одинаковые, висели у всех на кухне, я услышал, что началась война.
ВОЙНА
Армейские университеты
Я был освобожден в университете от курсов военной подготовки, поэтому у меня не было никаких воинских званий. У нас в университете готовили летчиков, но я для этого не подошел из-за своего довольно хилого сложения.
Вскоре после начала войны я получил из военкомата повестку. В принципе с письмом Ландау я мог бы, наверное, уехать в Москву, но тогда это было как-то... неприлично. Дело даже не в патриотизме, а, наверное, в той примитивной приверженности дисциплине, которая отличала то время в целом, и к которой мы все были приучены. Законопослушность и дисциплина. Если бы я, несмотря ни на что, все же поехал бы к Ландау, это не было бы ни дезертирством, ни обманом, но тогда мне это даже в голову не пришло. Я явился в военкомат, вместе со всеми своими товарищами, которые, естественно, были туда вызваны тоже.
Днепропетровск начали бомбить с первых же дней войны. В городе была дикая паника. Все боялись парашютистов-десантников, которых немцы вроде как сбрасывали с самолетов. Все ловили шпионов. Хватали, естественно, всех подряд, особенно если кто-то был как-то нестандартно одет.
Конечно, это был массовый психоз. Все время распространялись слухи, что диверсанты то тут, то там, то на этом берегу Днепра, то на другом. Когда народ находится в таком напуганно-возбужденном состоянии, любые, даже самые невероятные слухи, ложатся на благодатную почву. Из тех дней запомнился такой эпизод. В Днепропетровске в то время гастролировал Малый театр. И один из артистов, довольно тогда известный, Рыжов, носил бакенбарды. И вот, на главной улице города, проспекте Карла Маркса, толпа людей, стоявших до этого в очереди за эмалированными кастрюлями, побежала за ним и начала бить его этими кастрюлями, приняв за диверсанта. Потому что у кого же еще могли в то время быть бакенбарды?
Военкомат всех нас, окончивших физический факультет, отправил в Москву, для обучения в академии им. Дзержинского. Вскоре после моего отъезда эвакуировалась и моя семья. Родители с сестрой уехали в Ташкент.
А я попал в Москву, в академию Дзержинского. Там мне предстояло учиться на артиллерийского воентехника. Но я случайно встретил там своего школьного товарища. Он окончил Московский энергетический институт, и он сказал мне:
— У тебя сейчас будет собеседование с комбригом Березиным, который задает всем один и тот же вопрос: «Знаете ли вы, что такое “сильсин”?»
Сильсин — это слаботочный электрический прибор, который используется для наведения пушек на цель, такой небольшой электрический моторчик. Я тогда не знал, что это, но когда комбриг Березин задал мне свой вопрос, сказал, что знаю. И таким образом я попал в шестой дивизион. В этот дивизион были зачислены в основном физики, окончившие разные университеты, и только один человек был из мелитопольского пединститута. Про него еще долго думали, можно ли его брать. Но потом он даже стал у нас старшиной, и мне от него изрядно доставалось.
Через несколько дней появилась группа общевойсковых полковников. Построили наш шестой дивизион — у нас даже еще не было гимнастерок, брюки и сапоги нам успели выдать, а гимнастерки нет. Нас построили и сказали:
— С этого момента вы — слушатели курса «А» Высшей Военной Школы ПВО.
И повели пешком через всю Москву, по набережной, в академию Фрунзе. Это была общевойсковая Академия номер один.
Таким образом, я, благодаря своей «небольшой хитрости», не остался в академии Дзержинского, и не стал артиллерийским техником, а попал в общевойсковую академию. В этой академии был так называемый Второй факультет, или факультет ПВО, и нас всех на него зачислили.
Жили мы прямо напротив академии, в общежитии на Кропоткинской, через сквер. Этот дом до сих пор там стоит. Нам сразу же вручили винтовки. Преподавателями нашими были общевойсковые офицеры, а многие из них были офицерами генштаба еще царской армии. Это были люди очень интеллигентные. В этом смысле мне очень повезло. Они понимали, что из нас, людей сугубо гражданских, нужно за очень короткое время сделать строевых офицеров. Мы должны были много часов подряд маршировать с винтовкой наперевес.
Для меня это время было очень трудным физически. Стояло лето 1941 г., июль месяц. И весь этот июль я целыми днями маршировал с винтовкой в сквере напротив академии Фрунзе. А ночами сбрасывал немецкие «зажигалки/с крыши академии Фрунзе, потому что Москву каждую ночь бомбили.
Но надо сказать, учили нас очень интересные люди. Многие из преподавателей академии даже назывались еще комбригами, потому что еще не были произведены в генерал-майоры. Среди них был генерал-майор Богдан Колчигин, который прославился во время войны — он преподавал у нас тактику, а на войне был начальником штаба разных фронтов.
Нас учили тактике так, чтобы мы в случае необходимости могли принимать решения на уровне командира дивизии. Учения, тактические игры происходили по картам Подмосковья.
Вскоре наш Второй факультет переименовали в Высшую Военную Школу ПВО и перевели на Красноказарменную, 14. Там мы проучились до 14 октября.
14 октября, когда Москву эвакуировали и было неясно, будет она сдана врагу или нет, решался среди прочих вопрос о том, что делать с нашей школой. Будут ли ее бросать на защиту Москвы или вывозить. Наш начальник ПВО генерал-майор Кобленц уехал с утра в Генштаб за распоряжениями о судьбе школы. К вечеру он вернулся и объявил, что школа эвакуируется в Пензу.
В Пензе я проучился до апреля 1942 г. Наши преподаватели во внеучебное время вели с нами откровенные, дружеские разговоры, они понимали, что мы такие же люди, с высшим образованием. По вечерам мы часто сидели вместе и разговаривали совершенно на равных. При этом с нами, простыми курсантами, мог сидеть и полковник, и генерал. Они обсуждали с нами любые вопросы — от военных до обычных житейских. Это было необычно, особенно для армии, для военной школы. И я хочу заметить, у нас тогда не было никакой дедовщины. При таком отношении старших с младшим по званию ее просто не могло быть. Мне кажется, если бы в нашей сегодняшней армии офицеры общались с солдатами не только посредством приказов, но и просто по-человечески, то это сильно способствовало бы ее укреплению.
К апрелю мы закончили курс наук. Нас готовили как офицеров, командиров зенитных батарей, чтобы мы могли командовать подразделением такого масштаба. И уже где-то в феврале-марте многие из нас поняли, что науку, необходимую для командования взводом, мы выучили, и стали проситься на фронт. Среди них был и я. Я написал заявление, в котором просил отправить меня на фронт. Но в это время создавалось второе, наружное кольцо ПВО Москвы. Первое было создано раньше. И произошло то, что обычно происходит в армии — человека никогда не посылают туда, куда он просится. Поэтому тех, кто просил отправки на фронт, послали на формирование этого второго кольца, а тех, кто не просил, отправили в Сталинград, где как раз разворачивалась Сталинградская битва. Многие из них оттуда не вернулись.
А я попал в Москву — только потому, что просился на фронт. Мне сразу доверили больше, чем взвод — я был назначен заместителем командира зенитной батареи. Тогда еще на каждой батарее были командир и комиссар. Наша батарея стояла недалеко от штаба 57-й зенитной дивизии, которая в это время там разворачивалась.
Командир и комиссар батареи были кадровыми военными, получившими военное образование еще в мирное время. Первое, что я выучил, что на батарее нужно уметь очень крепко ругаться матом, иначе ничего добиться было невозможно. Мат на батарее стоял невероятный. Пили, конечно, тоже страшно. Спустя какое-то время мои начальники поняли, что я человек надежный. Поэтому они оставляли меня на ночь дежурить на батарее, а сами уходили гулять к местным учительницам. Батарея находилась на Калужской дороге, рядом был поселок Валуево и другие подмосковные поселки.
Командир батареи Гришин был хотя и довольно молодым, но очень жестким по моим представлениям человеком. Однажды произошел такой случай. Один из солдат, который должен был охранять каптерку, то есть склад продовольствия на батарее, ночью залез на этот склад и наелся там концентратов. После чего целый день валялся больным. А вечером командир батареи созвал личный состав, построил всю батарею и объявил приговор — расстрел, за то, что он съел продукты со склада. После чего была произведена имитация этого расстрела. Приговоренный встал на колени, плакал, просил пощады, и его все-таки потом «пожалели» и не расстреляли. Эта история стала известной где-то в штабе, и Гришин был отправлен в штрафной батальон. Потом я слышал, что он прошел штрафбат, вернулся и был неплохим командиром. Правда, жестким.