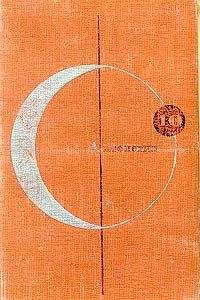Александр Янов - Россия и Европа- т.2
Вот почему колебалась монархия: поломать эту петровскую традицию без революции было практически невозможно. Понятно, что император Александр со своими европейскими пристрастиями решительно для такой гигантской пертурбации не годился. Николай, с другой стороны, был словно бы для неё и создан. Точно так же, как был в свое время создан для прорыва в Европу Петр. Короче, лидер попятного движения был в 1825 году на троне.
Но при всей самодержавной власти Николая возможности его были ограничены. Так же, как Петру нужна была для прорыва в Европу идеология такого прорыва (созданная, как мы помним, Крижани- чем), для того чтобы «отрезаться от Европы» новому императору нужен был своего рода Крижанич навыворот. Ему нужен был идеолог, способный убедить образованное общество, что петровский период русской истории кончился и отныне европейская образованность лишь подрывает «национальное возрождение страны».
Николай мог жестоко расправиться с декабристами и тем самым обезоружить либеральную партию дворянства. Но покуда раз-
Ид
Б.Б. Глинский. Цит. соч., с. 188.
115 А.С. Пушкин. ПСС, М.-Л., 1937-1959. т. XI, с. 223.
Крижанич
336 Там же, т. XVI, с. 422.
лита была в воздухе страны, покуда жива была петровская традиция, никто не мог гарантировать, что «безумие наших либералов» не поднимет голову снова. Между тем Николаю нужна была именно такая гарантия, что внутридворянский идейный раскол окончательно подавлен. У нас есть документальное подтверждение этого. Как сказал император французскому послу Ле Феронне, «я хочу вас заверить, что нет оснований для тревоги, которую безумие наших либералов могло вызвать в Париже. Я вам гарантирую, что пройдет очень много времени прежде, чем они будут в состоянии повторить такую попытку».117
Это было, однако, легче сказать, чем сделать. В XIX веке одной грубой полицейской силы было для этого недостаточно. Требовалось еще и обоснование идейное. Кто-то должен был авторитетно опровергнуть лежащую в основе петровской традиции идею, что другого просвещения, кроме общеевропейского, не существует. Вот почему главная задача, стоявшая перед николаевским «Крижани- чем навыворот», сводилась, по сути, к попытке доказать, что другое просвещение, отдельное от Европы, есть. И таким образом не только освободить правительство от обязанности быть в России «единственным европейцем», но и санкционировать возвращение в Московию, сколько возможно это было в XIX веке. Ибо другого способа гарантировать страну от новой вспышки «безумия наших либералов» просто не существовало. Говоря словами А.А. Корнилова, нужно было дать «самовластию, к которому Николай был склонен по натуре, возвышенную идеологию, подвести под неё „принцип"».118
А уж Николай, конечно, не замедлил бы сделать из этого «принципа» все необходимые практические выводы. Почему бы, например, не узаконить то, что назвали мы здесь московитским просвещением, официально запретив какое бы то ни было образование крестьянским детям, дабы «не развить у них мысль о выходе из того состояния, в котором они находились»?119 И ведь вправду, если верить А.А. Корнилову, «Николай Павлович задумал издать в этом смысле особый законодательный акт... и хотел предложить Государ-
W. Bruce Lincoln. Nicholas I. Emperor and Autocrat of All the Russias, Northern Illinois Univ. Press, 1989, p. 84.
A.A. Корнилов. Цит. соч., с. 152.
/
Там же, с. 158.
ственному Совету обсудить этот вопрос» (отговорил его В.П. Кочубей, представив, что «опубликование [такого закона] может повредить новому правительству во мнении иностранных держав».)120
Это, конечно, лишь частный пример практического применения «возвышенной идеологии». Другой пример привёл Иван Киреевский в негодующем письме Вяземскому, жалуясь, что литература «уничтожена ценсурою неслыханною, какой не бывало с тех пор, как изобретено книгопечатание».121 В принципе, однако, требовалось от «Крижанича навыворот» обосновать три главныхтезиса.
Что самовластье есть национальная идея России, ее' основа и гордость, её Палладиум.
Что русская история и культура принципиально отличны от европейских, по каковой причине у нас «безопаснее порабощать людей, нежели дать им не вовремя свободу» и «всякая новость в государственном порядке есть зло».
Что народ — ив первую очередь образованное общество — должны быть перевоспитаны в духе преданности самодержавию и московитскому просвещению.
И тут Пайпс, конечно, опять почти прав: идеолога такого масштаба и авторитета могло предложить тогда новому правительству только реакционное дворянство. В противоположность либеральному декабризму онс^предложило консервативный национализм Карамзина.
Глава третья Метаморфоза Карамзина
«Возвышенная идеология».
Тезис первый Едва ли удивится
после этого читатель, почему так много места уделено здесь полемике вокруг метаморфозы Карамзина. Если уж Ю.М. Лотман полтора столетия спустя после смерти мэтра так
Там же.
М.И. Гиллельсон. ПА Вяземский, с. 335.
и не смог освободиться от магии его либерального прошлого, то что же говорить о современниках Карамзина? Сила его как раз и была в этой двойственности его репутации, благодаря которой одинаково любезен он был и Уварову, и Пушкину. Именно поэтому оказался он моральным и идейным символом как для Николая и дворянского большинства, так и для либеральных «декабристов без декабря». И именно поэтому никто другой, кроме разве самого Николая, не сыграл такую решающую роль в соскальзывании России в новый исторический тупик, как Карамзин.
Нет, в отличие, допустим, от графа Николая Мордвинова (который, к слову, оказался единственным членом Верховного Трибунала, протестовавшим против смертного приговора декабристам), Карамзин не был консерватором в том традиционном смысле, в каком понимает это Пайпс. Во всяком случае Эдмунд Бёрк, основатель европейского консерватизма, своим бы его не признал. В конце концов Бёрк, как и Мордвинов, всю жизнь боролся за ограничение самовластья. Не был Карамзин и охранителем, как думал Пыпин. Он был консервативным революционером, идеологом самодержавной революции XIX века.
С обоснованием первого тезиса «возвышенной идеологии» справился Карамзин, на беду России, очень даже успешно. Он действительно внушил не только Николаю, но и всем его наследникам на российском престоле идею, что без самодержавия «Россия должна погибнуть». И создал тем самым мощный идейный капкан, из которого ни один из нихтак до самого конца и не выкарабкался.
Вот его аргумент.
«Можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят: можно. Надобно только поставить закон еще выше государя. Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их? Выбираемые государем или государством? В первом случае они угодники царя, во втором захотят спорить с ним о власти — вижу аристократию, а не монархию. Далее: что сделают сенаторы, когда монарх нарушит Устав? Представят о том его величеству? А если он десять раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят ли народ?.. Всякое доброе русское сердце содрогнется от сей ужасной мысли. Две власти
государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ничто»}22 Коротко говоря, изящный аргумент Карамзина сводился ктому, что конституционная монархия в России в принципе невозможна. В Европе возможна, а у нас нет. Читатель, конечно, понимает, как дорого обошелся стране этот аргумент. Ведь означал он в конечном счете смертный приговор российской монархии. Просто потому, что, как показал европейский опытХ1Х-ХХ веков, единственным способом её сохранить была именно трансформация абсолютизма в конституционную монархию. Во всяком случае выжила она лишь там, где монархия согласилась на такую трансформацию. Аргумент Карамзина отрезал этот спасительный для монархии путь.
Нотакова была его власть над умами всех постниколаевских самодержцев, что, как мы помним, даже правнук его ученика Николай II уже после революции пятого года и вопреки всякой логике восстановил в Конституции империи титул самодержца. Благодаря Карамзину, все наследники Николая Павловича на российском престоле намертво усвоили, что выбора у них нет: либо самодержавие, либо гибель страны. Чем это должно было кончиться, мы знаем. История таким образом доказала, что Россия и впрямь европейская страна и, вопреки Карамзину, самодержавие не может жить в ней вечно.