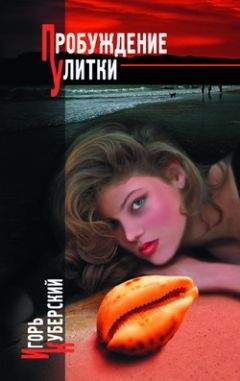Неизвестно - zolotussky zoil
Что же это за существо и что так возвышает его над людьми? Автору достаточно сказать, что Зубр «буйно мыслил и буйно работал», чтобы снять этот вопрос. Душа героя остается тайной за семью печатями, но Гранин считает, что проникновение в нее и не нужно, слишком уж впечатляющи эти внешние признаки величия Зубра. Когда же речь все-таки заходит о душе, о святая святых его героя, о том, верит или не верит он в Бога, Д. Гранин тут же откочевывает от опасной зоны. «Был ли у него бог? — читаем мы. — Я никогда не мог уяснить себе этого до конца. Достоевский полагал, что если бога нет, то все дозволено, а раз дозволено, то можно и духом пасть, отчаяться. Но человек есть тайна, от самого себя тайна. Не верит он ни в черта, ни в дьявола, тем не менее, его что- то останавливает. Не дозволяет. Бога нет, страха нет, а — нельзя. Тот, кто преступает, тот и с богом преступил, поклоны бил и все равно преступил. Когда вера религиозная схлынула, думали, наступит вседозволенность. Не наступила (а как же Сталин и сталинщина? — И. З.). Необязательно, значит, что неверующий в душе — запретов нет. Всегда они были, запреты, во все времена, они-то и роднят поколения, народы, всех, кто когда-то плакал и смеялся на этой земле».
Абзац этот отчасти просвещает нас насчет самого автора, но нисколько не просвещает насчет Зубра. Так и остается тот непознанной «глыбой», «ящером» и «мастодонтом», чьи увеличительные имена и прозвища предоставляют ему право оставаться неузнанным. Один раз мы, правда, узнаем, что в Зубре «вздыбился аристократизм». Но и тут преувеличение, гигантомания: аристократизм должен обязательно «вздыбиться», произвести какое-то потрясение. Автор как бы лишает читателя инициативы и сопротивления — стой и смотри на «глыбу», очаровывайся ею, поклоняйся ей.
Не стану отрицать полезности повести Д. Гранина, но это полезность информационная. «Зубр» — это еще одна биография, еще один документ эпохи. Еще один лист, подшитый к «делу» о тридцатых и сороковых годах. Тимофеев-Рессовский вызывает симпатии, но симпатии, я бы сказал, заочные. Я признаю положительный факт его существования в действительности, но не факт существования в литературе.
Кроме того, меня смущают его амбиции. Его рыки, и крики, и «топот». Читаю статьи о Н. И. Вавилове: не было этого. Читаю о Петре Капице: ничего подобного. Письмо П. Капицы Сталину по поводу ареста Л. Ландау потрясает меня. Я вижу человека достоинства, который идет в клетку к кровожадному зверю (и здесь сравнение со зверем уместно) и не страшится этого. Я вижу, как он прикрывает грудью собрата по науке. Я вижу в этих героях не «ящеров», а людей, не «мастодонтов», а обыкновенных смертных.
Гранинский Зубр слишком смахивает на сверхчеловека. Я был бы рад, если б он предстал передо мной в повести просто человеком, братом по времени и по судьбам, который выходит в герои, возвышаясь не внешне, а внутренне.
Цена этого возвышения сильно возросла в обществе. Герой-победитель, герой, гордящийся своими победами над природой и людьми, сменяется сейчас героем, который умеет побеждать себя, смирять себя, винить себя. Чувство вины и покаяния, мучающие его, это мучения болезни, которую я бы назвал болезнью выздоровления, болезнью, из которой человек выходит заново родившимся, чистым.
Времена изменились. Теперь трепет вызывают не ракеты и не ядерные котлы, как и те, кто создал их, а усилия тех, кто хочет сломать эти ракеты, погасить котлы. Пафос переделки, преобразования, насильственного переустройства природы сменился пафосом спасения своих отношений с ней. ибо природа не мачеха, а мать наша. Не жалея ее, мы не жалеем себя, мы режем по живому, ибо связаны с нею, как младенцы с матерью, пуповиной.
Вот почему гордыня ума нынче не в моде, вот почему всякие гиперболизации производят впечатление анахронизма. Ныне человек строит не вавилонскую башню, а дом. Дом, в котором можно жить в настоящем, а не терпеть во имя будущего. Что такое будущее? — спрашивал Гоголь. И отвечал: зеленый виноград. Настоящее самоценно и прекрасно, оно — мгновенье, но это единственное мгновенье, которое дано каждому из нас для пребывания на земле. И пренебречь ценностью этого мгновенья мы не вправе.
Недаром образ дома — любимый образ литературы последних лет. И будь это крестьянская изба у Ф. Абрамова или городской дом у Ю. Трифонова, это все равно жилище, пристань, а не место временного обиталища человека. Это не химера, не стоокая башня, на этажах которой люди пожирают людей, а согретый материнским теплом угол, очаг, где голоса стариково и детей не противоречат друг другу. Дом — почка, дом — зерно, дом — завязь на ветви жизни — вот что сегодня для нашего сознания дом.
8
В журнале «Огонек» (1988. — № 8) я прочитал, как хоронили академика Н. Вавилова — сбросили в яму вместе с другими трупами, в безымянную яму, и зарыли землей. Лопатами сбрасывали трупы, голые трупы зэков, погибших в тюрьме. Вот факт, который не снился Данте, не снился его «Аду». Неужто литература будет об этом молчать? Неужто она — ради спокойствия наших чувств — должна пройти мимо этого?
Алесь Адамович в «Последней пасторали» (Новый мир. — № 3) пугает нас последствиями атомной войны, но это за пределами нашего разумения, а гибель Н. Вавилова — дело наших рук, дело нашего молчания, это то, что виной вонзилось в наше сердце. Атомный апокалипсис А. Адамовича не страшит (он и литературно вторичен), а 1929 и 1930 годы страшат, 1932—1933 годы — страшат, 1937-й и 1941-й — страшат. Страшит это, страшит Чернобыль (два романа о нем — В. Яворивского и Ю. Щербака — появились в 1987 году), страшат новые попытки навязать нам новое молчание и новое соглашательство.
Андрей Битов в романе «Пушкинский Дом» (Новый мир. — № 10, 11, 12) выводит героя-подонка, подонка из интеллигентов, предавшего своего отца и деда, и говорит устами Митишатьева: «Подонок, худшие черты которого отражаются в Митишатьеве (взятый напрокат «двойник» Достоевского), достойно завершает путь русской интеллигенции, которая раньше стрелялась на настоящих пистолетах, а теперь и до дуэли не может возвыситься и вынуждена довольствоваться плевками в лицо».
Дуэль на музейных пистолетах уже сама по себе есть пародия. Эта дуэль происходит в Пушкинском доме (еще один намек на неблагородство стреляющихся), а до этого Митишатьев разбивает посмертную маску Пушкина, вызывая Одоевцева на поединок — поединок потомка «князей» с «выходцем», «хамом» и «быдлом».
Вся эта игра понятий сводится в конечном счете к тому, что митишатьевы в романе А. Битова берут власть над одоевцевыми, что не интеллигенты-одоевцы руководят митишатьевыми, а наоборот, история перевернула эти отношения, и теперь не «князья» заказывают бал, а «быдло», при этом «быдло» еще глумится над «князьями», отбирая у них, кроме их женщин, из привилегии на умственный труд, рефлексию, которая тоже годится «быдлу» на закуску. То, что в Одоевцеве прикрыто высокими фразами, что облечено в формы поэзии, в его двойнике выражается грубо и низко, но при ближайшем рассмотрении (а Одоевцев смотрится в Митишатьева как в зеркало) обнаруживается, что Одоевцев тот же Митишатьев, только слегка подслащенный, слегка подкрашенный.
«Все мы отчасти Митишатьевы», — изрекает Митишатьев, намекая на то, что масса населения в России сделалась однородной, что нет уже ни верха, ни низа, а есть нечто, приведенное к одному знаменателю, где различия между «князем» и «хамом» невелики.
К такому итогу приходит Андрей Битов, рисуя эволюцию петербургского интеллигента. Это самое обидное, потому что интеллигенция — петербургская, потому Петербург (Ленинград) — последняя ее цитадель. Еще в XX веке род Одоевцева дал миру мощную фигуру — личность деда Левы, подлинного ученого и сильного человека. Но в отце Левы ученый уже выродился, а интеллигент пропал. Сам Лева — ни то ни се, раздвоенный инфант, который и во взрослые годы остается инфантом, желающим опереться на кого-либо. Он готов даже опереться на своих женщин, которые — будучи слабым полом — все же сильнее его.
Отец Левы предал своего отца, а Лева предает отца — но уже не из страха (как было с его собственным родителем), а по инерции. Торможения чести уже нет в нем. Он хочет понравиться деду, заслужить его расположение. Но дед кричит, показывая ему на дверь: «Вон!»
Так рвется звено в цепи, так род Одоевцевых прерывается, в сущности, на деде, обретая в лице Левы и его отца лишь последышей.
Дед, арестованный по навету и пробывший в местах не столь отдаленных много лет, вернулся седым, старым, но не сломившимся. Лева — хоть и не знал ничего подобного — уже заранее сломлен, унижен через предательство отца. Через предательство, которое принесло в дом Левы благополучие.
Лева наследует не честь, а страх. Он дитя страха, дитя поколения эпохи страха. И хотя самому Леве лично ничто не угрожает (он взрастает уже в хрущевские времена), ничто не может поколебать в нем этой наследственности, этой родовой теперь для Одоевцевых черты.