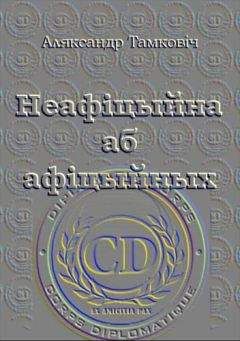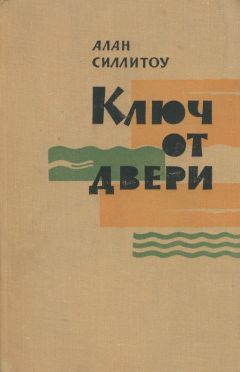Алан Силлитоу - Ключ от двери
— Работу можно найти на каучуковой плантации. Малайский мне выучить нетрудно, если взяться за него по-настоящему.
— А какая она, Англия? — спросила Мими. — Расскажи.
— Я ничего не знаю про Англию. Но расскажу тебе про Ноттингем, когда ты расскажешь мне про джунгли. Если тебе мешает мошкара, опусти сетку.
— Да нет, ничего, они меня не трогают. А на плантации очень опасно.
Оба замолчали. Они слушали, как квакают лягушки, как стрекочут кузнечики, словно ткут в высокой траве бесконечную пряжу. Собаки лаяли где-то возле хижины, и из бухты на Муонге к ним донесся замирающий звук пароходной сирены — он слабел, продираясь сквозь густую тень деревьев и прячась от деревенских огней. Брайн усмехнулся.
— Ты, словно цыганочка, ворожишь. Что же тут опасного — остаться в Малайе?
Кровать скрипнула — Мими повернулась к нему всем телом, и ее черные, как уголь, глаза засветились тревогой.
— Значит, ты думаешь, что живешь в мирной стране?
Он улыбнулся — ради собственного успокоения. Страна и в самом деле казалась ему вполне мирной; конечно, здесь водятся тигры, змеи, здесь вредный климат, но так ли уж все это страшно?
— Ерунда, — сказал он. — Просто нужно перешагнуть через это. В джунглях я еще не был, но, может, скоро придется там побывать. У нас кое-кто в лагере собирается взобраться на Гунонг-Барат посмотреть, на что они похожи, эти горные джунгли. Всю дорогу, наверно, будем наверх лезть.
Он вспомнил, как впервые увидел Пулау-Тимур по дороге из Сингапура с борта «авро-19», который с ревом летел над прибрежными болотами на высоте шести тысяч футов. Пулау-Тимур лежал среди яркой синевы моря неподалеку от материка, словно россыпь зеленых холмов, и с высоты под ярким полуденным солнцем был похож на пластилиновый макет местности, вроде тех, какие Брайн делал в школе.
«Авро» снизился над портом Муонг, потом поднялся выше над лесистыми горами и бросил свою тень на пустынную гладь моря к западу от порта. Брайна чуть не вывернуло от резкого поворота, когда самолет, словно задев брюхом верхушку горы и промчавшись над островами, пошел на посадку, пролетая над проливом шириной в две мили. Он все снижался и снижался над синей гладью пролива, и ближняя часть посадочной площадки, сверкавшей под солнцем, точно кусок канала, окруженного деревьями, приближаясь, становилась все шире. Брайн увидел песчаное дно, просвечивавшее сквозь воду, увидел несколько сампанов, спешивших прочь с дороги, рыбацкие сети на шестах, которые торчали из моря, словно ножи, нацеленные в брюхо самолета; потом по обе стороны желтыми полосами промелькнули длинные песчаные пляжи и моторы зловеще смолкли. Это было жуткое мгновение, когда техника вдруг словно отказала, отступила перед тишиной. Брайн взглянул влево и увидел далеко на севере большую гору — величественная ее вершина вздымалась в небо, привлекая его взгляд к далям, которых он никогда раньше не замечал. Одиночество этой вершины затронуло что-то в его душе: мощная и независимая серая гора, недоступная ни жаре, ни холоду, маячившая на полпути в другой мир, за эти секунды взволновала его больше, чем все, что он видел до сих пор. Даже обратная сторона луны казалась хорошо знакомой в сравнении с этим совершенно иным миром, иным измерением, вдруг возникшим вдалеке за водным простором и прибрежными болотами. Потом видение исчезло, потому что снова взревели моторы и самолет помчался над посадочной дорожкой вдоль берега, где его уже ждали легковые машины, грузовики и повозки, запряженные быками, миновал деревянные строения, пальмы, диспетчерскую вышку, и наконец Брайн, ощутив легкий толчок, с облегчением почувствовал, что они приземлились. А через несколько дней он стоял на берегу, любуясь простершимся над Пулау-Тимуром вечерним небом, по которому стремительным потоком плыли над холмами оранжевые, желтые, зеленые и кроваво-красные полосы, простираясь с юга на север и угасая где-то в стороне, там, где были Сиам и Бирма. Пальмы склонялись над водой, и ночные огоньки рыбацких деревушек взбегали к той самой вершине, которую он видел из самолета. Он узнал название этой горы — Гунонг-Барат, что значит Западная гора, и нашел на карте ее высоту — четыре тысячи футов. Гора эта стояла в стороне от главного малайского хребта, это была целая цепь утесов и горбатых уступов, разделенных лесами, лощинами, по которым мчались горные потоки, и венчала все это одна вершина, царившая над всеми этими городками и рисовыми полями на прибрежной равнине. Он надеялся, что ему удастся когда-нибудь добраться до этой вершины, но не знал, как и когда может представиться такая возможность. Гора была в двадцати четырех милях к северу от лагеря, склоны её покрывали густые заросли, дорог не было, да и вообще, думалось ему иногда, вряд ли она заслуживала того, чтоб на нее взбираться.
— Не понимаю, зачем тебе туда лазить? — удивилась Мими. — Там и души-то живой нет.
— Откуда ты знаешь? А я вот слышал, что на вершине есть ресторанчик и в нем один малый из Йоркшира продает кофе и булочки с кремом. Он там уже лет тридцать торгует, и дело идет из рук вон плохо, потому что все, так же как и ты, думают, будто там никого нет.
— Напрасно ты мне голову морочишь, — сказала она, улыбаясь, — Только ты меня не понял. Тут в Малайе будут большие бои, потому что народ не хочет, чтоб здесь были англичане. Война будет.
Он знал об этом, читал в газетах про убийства на каучуковых плантациях и про то, что в людей стреляют неизвестно по какой причине. Как-то вскоре после приезда из Сингапура он спросил у капрала-связиста, почему на всех письмах все еще нужно писать «Действующая армия», и тот ответил, что малайская Народная армия, сражавшаяся против японцев, не хочет теперь сдавать оружие, которым англичане снабдили ее во время войны, и, по существу, выступает против Англии, требуя независимости для своей страны. «Будет еще похуже, — сказал этот всезнающий пророк капрал. — Увидишь, какая тут в один прекрасный день кровавая заваруха начнется. Одна надежда, что я к этому времени уже смотаюсь отсюда и всего этого не увижу, хотя мне так не везет, что могу и застрять».
— Ну что ж, — сказал Брайн весело. — Может, я и правда вернусь в Англию, как только представится случай, и найду там тихую, безопасную работу на какой-нибудь фабрике. Тогда уж я смогу выслать тебе все эти книжки, которые обещал. — Он осторожно стянул с Мими простыню и обнял девушку. — А только мне бы хотелось тут насовсем остаться.
— Нет, это не для тебя. Ведь что тут будет, когда начнется война? Все здесь считают, что коммунистическая армия собирается выйти из джунглей и перебить англичан. И никто не сможет остановить ее, так говорят. И может, много малайцев и китайцев при этом погибнет.
— Не знаю, — сказал он полушутливо-полусерьезно.— Но я-то ведь коммунист, так что со мной, может, ничего и не случится.
— Не надо шутить.
— А я и не шучу. Ты просила меня рассказать что-нибудь про Англию, так ведь? — Он закурил, чтобы отогнать дымом мошкару. — Так вот, я жил в старом, ветхом доме в Ноттингеме, и, помню, до войны отец мой однажды по-настоящему плакал из-за того, что лишился работы. И так шло несколько лет, и денег в доме совсем не было и еды тоже. Детям, правда, не так трудно было: нам бесплатно давали молоко и горячий обед каждый день — хитрые, собаки, заботились, чтоб мы выросли и могли потом против коммунистов драться. Теперь там стало немного полегче, но отчего это я должен идти против коммунистов?
— Не знаю, — сказал она. — Но ведь ты против, верно?
— Это ты так думаешь.
— Все англичане против.
— А ты не будь в этом слишком уж уверена. Вот я, например, не против. Это точно. У меня своя голова на плечах есть. — Но тут он увидел, как серьезно лицо Мими, и собственную его серьезность словно рукой сняло, будто кровь потекла быстрее по его жилам, и он начал вдруг фантазировать: — И, если ты узнаешь, что какой-нибудь самый красный коммунист хочет купить пулемет и полсотни дисков, сообщи ему — у меня есть. Если сразу уплатить не сможет, пускай по десять долларов в неделю выплачивает. Или пусть ящик пива выставляет время от времени.
— Ты сумасшедший, — улыбнулась она. — В жизни не видела таких сумасшедших.
— Я чокнутый, поэтому ты меня и любишь, правда? — сказал он, целуя ее губы, шею, грудь, захлестнутый темной волной страсти. Она высвободилась из его объятий и потянулась за халатом.
— Раздевайся. А я пока принесу чаю, будем пить в темноте.
Тишина размыла запруду, сдерживавшую мысли, и картины прошлого стали проноситься перед его глазами. Они были туманнее, чем действительность, и яснее, чем грезы, но отвлеченнее обычных мыслей, потому что настоящее вдруг отступило. Темные людные ноттингемские улицы и их обитатели вдруг протянули сюда, в лесистые горы Малайи, свои щупальца, которые всюду настигали его, а порой терзали тоской по дому, хотя чаще все же пробуждали в нем целую бурю ненависти и, решимость никогда не возвращаться назад, если только удастся, пока не съежится это огромное расползшееся пятно воспоминаний и сами они не сгниют в забытом и захламленном уголке его памяти. Он переживал это так бурно потому, что в девятнадцать лет будущего не существует: сегодняшние страсти черпают силу в прошедшем, и оттого Ноттингему было совсем нетрудно вытеснить из его памяти Малайю.