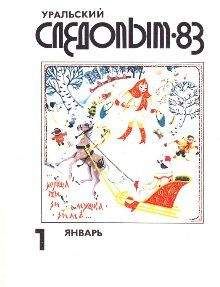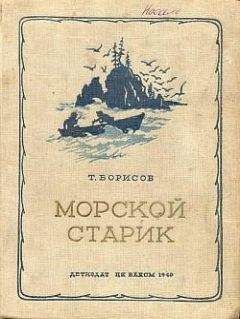Неизвестно - Александр Поляков Великаны сумрака
Но Соню теперь охватило другое страстное желание: во что бы то ни стало освободить Ипполита Мышкина; в ради- кальском деле Мышкин был фигурой невзрачной, малоприметной. А на суде его точно подменили — так уж заклеймил сатрапов и их приспешников, что только держись.
Потемневшие глаза Перовской снова полыхали синим огнем.
Раз или два, не стесняясь Саши Корниловой, она, нервно поведя плечами, вдруг усмехнулась:
— У тебя, Левушка, вон какой покровитель! Самодержец всероссийский. Взял и выпустил. Да как-то не до конца.
— А не попросить ли у него и за Мышкина? — подыграла Корнилова.
Ах, вот оно что! Какое-то глухое раздражение охватило теперь и Тихомирова. Выходило, что Государь, освободив его из крепости, заодно порушил его личную жизнь. Или почти порушил? Невольно, конечно.
«Какое мне дело — вольно или невольно! Тоже мне: слон в посудной лавке. Верно: что для него, деспота, маленький человек, судьба его, чувства его? В конце концов, кто просил меня освобождать?» — гневно ворочался, страдая от бессонницы (плохо помогал даже хлорал-гидрат), Левушка, враз позабыв, как плакал от нахлынувшего счастья в тот день, когда Александр II, задержав на узнике чуть насмешливый взгляд, произнес почти невероятное: «Отпустите его!»
Так уж получилось, что месяца два вокруг Перовской и Ольги Натансон толкалось человек сорок недавно освобожденных кружковцев. Потом Ольгу арестовали, и на какое-то время вся столичная революция собралась под началом взбудораженной первой ролью Сонечки. Она тормошила людей, что-то придумывала второпях, воевала с «троглодитами», предлагала создать свой кружок — на основе пропагандистского общества отошедшего от дел Чайковского, ищущего теперь вместе с Маликовым богочеловечество где-то в прерии Северной Америки. Но измученные одиночками вчерашние узники лишь слабо и как-то блаженно трясли головами, заранее соглашаясь со всяким Сониным словом, смотрели на нее, юную и порывистую, ласково, с мутноватой нежностью в глазах, и думали только об одном: отдохнуть бы, осмотреться, успокоить надорванные в равелинах и редюитах сердца. Потом, конечно, можно снова за дело, но теперь. Нет уж, увольте!
Да и тех, кто представлял деловую ценность, было всего ничего: сама Перовская, Дмитрий Клеменц (он ухитрился избежать ареста), Николай Морозов да он сам, влюбленный Тихомиров.
А Соня все твердила: хоть что-нибудь, только не спячка, только не спячка.
И от этого синего пожара в ее глазах Левушка страдал еще больше.
Он запомнил, он хорошо запомнил: громко, недобро рассмеялась Перовская, когда Морозов рассказал о том, как выпрашивали тихомировскую «Сказку о четырех братьях» костромские крестьяне, едва ли не вырывая брошюрку друг у друга. В то шальное лето 1874-го, когда студенты, облачившись в сермягу, ринулись в деревню, в народ, а Тихомиров уже полгода сидел в Петропавловке, Коленька был еще на свободе и, конечно, тоже не остался в стороне. Тем паче грудной контральто Липы Алексеевой звучал все проникновеннее, напевы звали в гущу русской жизни; ее тонкая сильная рука так ласково и требовательно лежала в его руке — в ту лунную ночь, когда они сидели рядом у окна ее опустевшей комнаты и говорили, говорили. Говорили о том, что всякий честный человек должен посвятить себя благородному делу— уменьшению народных страданий.
Кем Морозов только не был — и пильщиком, и кузнецом, и всяким там сукновалом-углежогом. В поле между деревнями Борисково и Афанасово наткнулся на мужиков, отдыхающих в тени под телегами. Вынул из холщовой сумки книжки. Просиял, увидев, как жадно потянулись раздавленные работой пальцы к «Сказке о четырех братьях» (вот, дескать, расскажу Тихомирову, порадую!).
— А еще дашь, человек милый? — прищурился плешивый малорослый крестьянин.
— Отчего же, дам! — воодушевился Морозов; подумал: «Значит, всходят первые ростки. Пробуждается народ. А там, глядишь, и полыхнет.» Спросил, раскладывая брошюры: — Выходит, грамотные? И много у вас таких?
— Нет, не обучены. Вот сын у Степки — тот горазд! А мы — нет.
— К чему же вам книжки? — опешил Коленька.
— Как к чему? А на раскурку? Бумажка-то хороша, городская.
Это было произнесено так искренне, с такой подкупающей простотой, что Морозов даже не успел рассердиться.
И вот теперь Соня смеялась над Тихомировым, над сельскими хитрованами и, стало быть, над «Сказкой о четырех братьях», над «Сказкой», которой недавно восхищалась вместе с Синегубом, которую тайно пронесла в камеру, чтобы прочесть ему, любимому и страдающему, самые удачные места. Уж лучше было бы, если б кто другой посмеялся. Хотя бы весельчак Клеменц, но только не она.
После двойной дозы мерзкого хлорал-гидрата приснилось: они с братом поднялись высоко, надо бы возвращаться, но он повис над пропастью. А где-то внизу — Соня, и ее гулкий голос зовет, зовет в пронизанную лучами бездну..
Соня засобиралась в Приморское, к матери. На вокзале он подарил ей букетик золотистых иммортелей. Непременно — иммортелей, потому что цветы эти, сколько ни засушивай, они все одно остаются точно живые.
— Как живые, да не живые. — задумчиво сказала она. — Прости меня, Левушка! — Голос ее дрогнул, в глазах погас неистовый синий пожар; недолгая тихая нежность засветилась в них.
— Что ты, что ты, Соня! — обнял ее Тихомиров.
— Странно. Так странно! — вздрогнула Перовская от удара вокзального колокола.
— Скажи мне, что — странно?
— Коля Муравьев когда-то мне тоже дарил иммортели. Теперь он прокурор, растет по служебной лестнице. Да я тебе рассказывала, помнишь? Быстро, говорят, растет. Я книжку открыла, а оттуда засушенные цветки выпали. Ну, право же, как будто вчера он принес. Странно, не правда ли?
Опять этот Муравьев! И на что он ей только сдался? Прокурор.
Куда-то глубоко под сердце снова вполз, тревожно угнездился там щемящий ревнивый холодок.
Зато. Зато, если на время позабыть про книжки Миртова и пропаганду за Невской заставой, если скинуть с плеч потертый плед и снять синие революционные очки-консервы, то все в этой жизни не так уж и плохо.
Соня уехала и писем не присылала. Что поделаешь, на Кавказ он отправился один, без невесты. В голове засела глупая поговорка, услышанная в рабочей артели: жених да невеста парочка, что твой баран да ярочка.
Потом, через сорок лет, совсем в другой жизни — уже при большевиках, уже при отходе белой гвардии! — в дневниковых откровениях он назовет то лето 1878-го светлым, радостным и беспечальным. Через сорок лет он признался себе: поехала бы с ним Соня, и все было бы по-другому, все было бы мучительно, нервно; каждый день был бы наполнен новыми требованиями и терзающими тревогами — то по слишком медленному восстановлению кружка, то по открытию тайной печатни взамен разоблаченной, то по отсутствию гектографа для выпуска листовок. Снова и снова корила бы она себя (а заодно и его, Тихомирова), что, служа сельской фельдшерицей, мало прихватила в больнице медицинских щипчиков: как уж они хороши для захвата букв в типографии! Скорость набора прокламаций возрастает чуть ли не вдвое.
В Ростове он с наслаждением утонул в сочной мякоти арбуза, купил дыню, пахучую тарань. Сидел на берегу, слушая шум базара, отдыхая глазами на изумрудной пойме, уходящей в теплую сиреневую дымку к самому Батайску, все больше погружаясь в бездумно-сладкое созерцание рыбачьих фелюг, дымящих буксиров, редких костерков, от которых аппетитно тянуло наваристой ухой, тянуло запахами детства.
Затем поезд мчал его по степной Владикавказской дороге, и пестрая мелькающая равнина разворачивалась, кружилась за вагонным окном, и голова Левушки молодо кружилась от необъяснимой радости, надсаженная тюрьмой грудь сладко ныла, наполняясь упругим воздухом солнечного разнотравья с примесью ковыльной пыли. И в этой пыли, чудилось ему, бежит, весело лает вслед верный пес Орелка, давний друг ребяческих забав.
«Орелка! Орелка! Иди домой! Иди.» — кричит он собаке, и та пропадает куда-то; степь вдали упирается в горную цепь с плоско срезанной Столовой горой (и вправду — стол!), за которой поднимаются сияющие снежные вершины, а за ними, вернее, над ними высится он — древний седой Казбек. Тихомирову повезло: облака ушли, и панорама горы открылась вся целиком. Там не было сияния, не было солнечной игры. Там не было суеты. Казбек стоял чисто белый, пугающий своей спокойной недвижимой громадой.
У Левушки забилось сердце. Он вздрогнул от догадки: значит, есть в мире то, что нельзя изменить, нельзя порушить. Можно лишь смотреть, созерцать — бесстрастно и смиренно. И как хорошо, что человеку не по силам повлиять на это замершее величие. Как хорошо. Но так ли — хорошо? Эта мысль растревожила его.
Додумать он не успел. Принесли чай из буфета. Он долго, с удовольствием пил его, всматриваясь в наплывающую окраину Владикавказа.