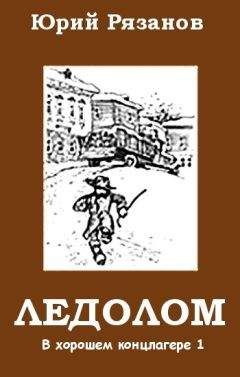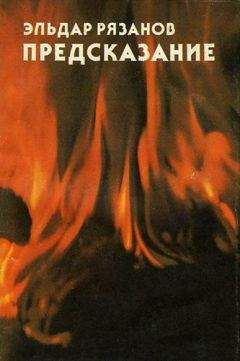Рязанов Александрович - Барон в юбке
Когда последний виток был смотан, оказалось, что эта повязка скрывает небольшие, но крепкие, с задорно торчащими в стороны маленькими сосками, девичьи груди – грозный повелитель двух лесных деревень оказался…
Женщиной…
Слегка помассировав себя, чтобы избежать застоя крови в сутками туго стянутых грудях, скрывающая ото всех свой пол девушка проследовала в парную. Там уже звонко потрескивали от жара свежие липовые доски стенной обшивки.
…От хвойного настоя, щедро плеснутого на раскаленные валуны каменки, камни обиженно взвыли, столбом взвивая к низкому потолку густой пар.
Господин, (или, все-таки, леди?) Ле Грымм склонилась над лежащим на полке человеком. Удовлетворено хмыкнула – горячий пар явно шел лихорадящему больному на пользу – дыхание выровнялось, а сам он, прежде мертвецки бледный, слегка порозовел.
…Разгоняя в горячем воздухе парной жар и разбрасывая вокруг ароматные капли, под потолок взметнулся духмяный можжевеловый веник…
…И так и не опустился – внимание леди-господаря отвлекло странное нечто, словно сотканное из черного тумана, более всего напоминающее металлический обломок, торчащий прямо из раны. Попытка дотронуться до него не увенчалась успехом – пальцы проходили сквозь выпирающий штырь, не встречая никакого сопротивления.
Откуда-то изнутри пришло осознание: пока эта неосязаемая дрянь находится в ране, ни о каком исцелении не может быть и речи. Это необходимо удалить, и удалить немедленно.
Сосредоточенно, раз за разом пытаясь ухватиться за выпирающий на пару вершков конец торчащей из раны призрачной дряни, при касании пальцев превращающийся в черный туманный вихрь, она не замечала ничего вокруг.
А тем временем в маленьком помещении парилки творилось нечто странное: пляшущие по обшитым досками стенам тени от масляного светильника налились белесым сумраком и потекли грязно-дымчатой слизью, скапливаясь на полу в клубы мутно-серого тумана; золотистые, звонкие доски доброй липы, попав под эти потеки, корчась, словно от безумной боли, и дымясь, съеживались, превращаясь в черную труху. Когда такая доска истлевала полностью, то под нею открывалось тускло светящееся, подобно затерянному в глухой чащобе трухлявому, гнилому пню, пустое пространство, заполненное серой туманной мутью.
В прореху истаявших стен пахнуло могильным холодом. Склонившаяся над безвольно лежащим телом девичья фигурка, зябко поежившись, подняла голову и непроизвольно вздрогнула. Окружавшие парную стены к этому времени истаяли вконец, открывая взору мертвенный лес, виденный Крымовым в недавнем кошмарном сне, все так же затянутый неестественно густым, цвета плесневелого молочного киселя, туманом, изнутри тускло подсвеченным блуждающими у самой земли, как на гиблом гнилом болоте, фосфиновыми огоньками…
***
Василий Крымов.
В горячем, пропитанном ароматами свежеструганной липы и шипящего на камнях можжевелового отвара воздухе, резко пахнуло гнилью и болотом. Мою голую спину обожгло холодной, промозглой сыростью, так, как будто вылепленный из тлена и болотной жижи чудовищный спрут тихо подкравшись, обхватил меня, раздирая кожу сотнями холодных присосок и крючьев и вызывая по коже панические волны мурашек.
Вздрогнув от холода и нехорошего предчувствия, я обернулся: вместо теплых, обшитых вручную любовно выглаженными свежими досками стен парилки, меня окружал мрачный строй корявых замшелых стволов, по колено утопающих в туманной дымке.
Сердце екнуло: передо мною вновь был тот же самый потусторонний лес из ночного кошмара, предыдущее посещение которого стоило мне пары седых прядей в шевелюре, только теперь я попал сюда наяву.
Ощущение реальности происходящего дополняется нахлынувшими со всех сторон волнами боли в старых ранах, от которой я, признаться, уже порядком поотвык.
Подняв к лицу, смотрю на свои руки – теперь это вновь корявые, изуродованные близким взрывом и десятком восстанавливающих их работоспособность операций, малоподвижные клешни…
..Опять… Я – снова я…
…Скулящий, протяжно болезненный не то вой, не то рык, исполненный жалобными нотками, раздался за моей спиной. Рывком, вызвавшим новую волну боли в изуродованном теле, я оглянулся на звук. На большом валуне, в который в этом мире превратился банный полок, лежал сильно изможденный, и, так же, как и я, абсолютно обнаженный человек. С огромным трудом я узнал в нем своего пациента.
Куда только делась дикая звероватость, всюду сквозившая в его облике прежде?
Лохматого, сплошь покрытого густой сетью рубцов и шрамов, громилы, даже на смертном одре всем своим видом более походившего не на человека, а, скорее, на матерого вепря-секача, в любой момент готового рвануть напролом – навстречу убийству или собственной смерти – уже не было.
Он исчез, растворился бесследно в густом тумане немого забвения, царящего в этом призрачном месте.
Вместо него, беззащитно распластавшись на замшелом камне, лежала – другого сравнения подобрать не могу – вдруг, каким-то неведомым чудом обретшая мягкость и податливость живой плоти, статуя античного полубога, созданная резцом гениального скульптора из старой слоновой кости.
Не смотря на огромный рост, массивный, грубый костяк и физическую мощь, явственно видную даже после длительного, изнурительного лечения тяжелейшей раны, – во всем облике сквозит типичный, чрезвычайно утонченный аристократ, рожденный для войны и власти. В каждом изгибе фигуры, в каждой черточке лица – тысяча поколений отборных предков, пробу ставить некуда…
Да черт возьми, – любой чопорный английский лорд со старушки-Земли, рядом с таким – все равно, что вислоухий, косолапый деревенский битюг, – плод халтурки пьяного зоотехника-осеменителя, – рядом с драгоценнейшим буланым ахал-такинцем… (1)
ПОРОДА… – истинное значение этого понятия мне стало ясно лишь тогда, когда я узрел загадочно преобразившегося Молчуна.
От созерцания распластанного на куске гранита тела меня отвлекли багровой вспышкой озарившие мрак у подножия камня, словно два угасающих в костре уголька, демонические глазищи-буркалы…
Меж лопаток побежала холодная, липкая струйка, от которой постыдно жгучей волной рванули, растекаясь цепной реакцией по всей коже, мурашки, вздымая дыбом каждую волосинку на теле.
Не постесняюсь сказать – впервые в жизни, мне стало, как говаривал блаженной памяти полковник Сидорчук, “до усрачки”, страшно:
…Из тумана, клубящимися очертаниями напоминая звероподобный сгусток чернильной тьмы, материализовывался воплощенный кошмар… Эта, насквозь пропитанная тьмой, тварь, вызывала неестественный, алогичный, панически пожирающий душу и остатки самообладания, страх. Страх на столь древнем, глубинном, уровне подсознания, что пошедшее в разнос тело практически полностью отказывалось подчиняться застопорившемуся разуму.
…Вновь в ночном безмолвии призрачного леса раздался исполненный муки вой-рычание. Теперь в нем отчетливо звучали жалобные, умоляющие нотки.
Заполонивший душу ужас как-то резко исчез, уступив место сжигающему стыду за пережитую пару секунд назад беспомощность. Вернувший себе контроль за телом разум, в самый последний момент, за доли секунды до конфузного опорожнения кишечника, еле успел отдать команду “отбой” предательски расслабившимся сфинктерам. Нечто подобное, говорят, испытывают жертвы инфразвуковой психотропной пушки, вызывающей полную деморализацию живой силы противника, но то – созданное людьми устройство, а здесь – чудовищное, дьявольское порождение из самых глубин преисподней.
…Тварь, вместо скопления клубящихся тьмяных вихрей, наконец обретшая более плотную, почти материальную, форму, повела себя крайне необычно. Рухнув на землю, это нечто, смахивающее теперь одновременно и на тощего, поджарого бьорха, и на громадного мастиффа, на брюхе проползло пару шагов в мою сторону. Я невольно отступил назад. В ответ донеслось жалобное скуление.
Вскочив на ноги, чудище обожгло меня совсем по-человечьи печальным взглядом, тяжко вздохнуло, и шагнуло обратно, к камню с распластанным на нем телом. Осторожно, ласково коснувшись носом безжизненно свисающей руки, оно, словно громадная псина, плюхнулось массивным крупом на пол, вызвав концентрические, подобно кругам на воде, волны в загустевшей кисее порывающего землю тумана. Задрав к мертвенно светящимся облакам свою башку, тварь вновь исторгла свой леденящий душу, жалобный вой.
Видя это скорее подобающее верному псу, чем демонической сущности, поведение, я, и вовсе потеряв опаску, тоже приблизился – меня все так же преполняла решимость во что бы то ни стало избавить Гримли от застрявшей в его ране дряни.
Когда я практически уже было сомкнул руку на этом штыре, меня остановил тонкий, никогда не слышанный, но, почему-то до боли знакомый, девичий голос: