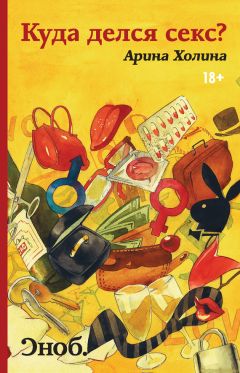Леонид Гроссман - Бархатный диктатор (сборник)
Но опровержения так и не последовало. Тщетно придворный богослов просматривал за утренним завтраком, меж двумя заседаниями или в придворной карете, новые выпуски московского обозрения. Богохульство оставалось неопровергнутым. И ничего сильнее этого разгрома Евангелия покойнику уже не довелось сказать. Так и ушел внезапным и быстрым горловым кровотечением – и не в вере ушел, в колебании. Почему же теперь такой страшной правдой дышит его тогдашняя мысль?
Он продолжал, заглушая тревогу, писать императору:
...«Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет – этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц отца вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих ослабленных умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется».
Мщение? То ли слово? Ведь блаженны милостивые… О, вечные соблазны невыполнимей книги! И зачем только ревностные ученики записали в своих канонах и посланиях эти неосуществимые заветы опаснейшего фантаста и передали их векам, как норму поведения и правила практической жизни?
Он подошел к огромному образу. Долго и пристально всматривался в древнее творение новгородских иконописцев. Казалось, безмолвно и напряженно вел с ним беседу.
– Ты хочешь внушить мне, что в этом письме моем к императору ложь и софизм? Благотворить ненавидящих нас и молиться за нас обижающих – этого ждешь от меня, о тончайший из риторов? Нет, ошибаешься – не безумством заветов твоих будем обуздывать бунты, строить церковь твою и крепить всемогущество кесаря.
Он вытянул вперед блистающий в свете лампад остроконечный свой череп, строго, пристально глядя в темный левкас новгородского образа.
– Да, бесспорно, покойный писатель был прав: ты мешаешь нам. Невыполнимостью нравственных своих афоризмов и зовом к несбыточным подвигам ты подрываешь всякую власть. Да, он был прав, инквизитор поэмы: мы, первосвященники и правители, пастыри буйного и трусливого стада, мы ненавидим тебя. Две тысячи лет ты смущаешь нас безумьем утопий своих. Мудр, премудр был Понтий Пилат, освободивший разбойника Варавву и казнивший тебя позорною и грозною казнью. Ибо что есть разбойник? Угроза дюжине купцов… Ты же подтачивал ядом смертельной доктрины целые армии, разваливал в прах непобедимые фаланги, рушил могучие царства, и величайшие в мире империи хирели и проваливались, как от дурной болезни, в бездонные пустоты твоего страшнейшего парадокса. От тебя пошли все эти лжеучители, от которых ныне сочится кровавыми ранами власть самодержцев всея Руси и шатается на адамантовых своих основаниях сама православная экклезия. О, как был прав в тот вечер над исчерканными корректурами ясновидец-писатель в своей богохульной и громоносной истине! Да, мы не любим тебя, ты пришел нам мешать. И если бы сегодня, двадцать девятого марта в год тысяча восемьсот восемьдесят первый со дня Рождества твоего в Вифлееме иудейском ты появился в священном граде Петра подрывать своими нагорными проповедями еще неокрепшую державу молодого императора, если б ты сошел в наши темницы или замешался в толпу площадей в холодные утра нещадных и мудрых возмездий наших, я сам разыскал бы тебя под землею или на стогнах града и отдал бы собственной властью приказ о твоем расстрелянии. Ибо пасомому нами стаду в сотни миллионов голов даем мы угрозой и казнью сытость и сон, которые ты отнимаешь у них уже два тысячелетия…
И, возвратясь торопливыми шагами к столу, он стремительным почерком приписал окончание.
...«Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий и поколеблет сердца ваших подданных. Я, русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые ковы. Ради Бога, ваше величество, – да не проникнет в сердце Вам голос лести и мечтательности.
Вашего императорского величества верноподданный Константин Победоносцев».
Из кресла своего, не вставая, торжествующим взглядом окинул он безмолвствующего своего собеседника там, в углу, за серебром цепей и узорочной россыпью лампад. Новгородский искусник вложил в глаза своего мыслимого портрета необычайную выразительность и пронизывающую силу живого взгляда. Но, в упор проницая холодным своим оком лик древней картины, обер-прокурор последними доводами заключал свой обвинительный монолог.
– Ты думаешь смутить меня противоречием меж проповедью и делом моим? Меж словом твоим, возглашенным пастырями церкви, мною ведомой, и мечом, разящим главы непокорных? А ты позабыл, что я законник и логик? О поверь, мы найдем толкование, мы выкуем формулу… Слушай: сам же ты принял казнь, а стало быть, не отверг ее, а следственно и нам заповедал не гнушаться ею… Вот что возгласим мы с амвонов, пока палачи будут душить на площадях столицы смертельных врагов наших. Мы покажем тебя, о беспомощный вития галилейский, неожиданным и неправдоподобным – мужественным и грозным, могучим и карающим. Мы согласуем с расплывчатой книгой твоих апостолов смертоносные параграфы наших военно-полевых уставов. И за нами пойдут сто миллионов безмолвствующих и оробелых, которым мы обеспечим казнью шестерых сладчайшее право в глухой тишине предаваться их тайным порокам, бездумью и спячке.
И не снижая век под тонкими овалами стекол на трупьей своей голове, бесстрастно и прямо смотрел в зрячий очерк древнего богомаза верховный глава православия, смиренный наставник царей и ныне «волею Божьей» водитель величайшей империи мира.
* * *На следующее утро обер-прокурор, согласно обычаю, получил свое письмо с пометкой на верхнем поле:
...«Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеют прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь. А».
Раннее апрельское утро. Солнце и ростепель. На Семеновском плацу, как в 1826 году на кронверке Петропавловской крепости, приготовлены пять [1] веревочных петель. Удушителю Соловьева и Млодецкого предстоит большая работа.
Прокурор фон Плеве в треугольной шляпе и белых перчатках наблюдает с эстрады за обрядом.
«В 9 часов 20 минут, – запротоколировал официальный отчет, – палач Фролов, окончив все приготовления к казни, подошел к Кибальчичу и подвел его к высокой черной скамье. Смерть постигла Кибальчича мгновенно: по крайней мере его тело, сделав несколько слабых кружков в воздухе, вскоре повисло без всяких движений и конвульсий…»
«…Перовская была казнена третьей. Сильно упав в воздухе, когда палач отдернул скамью, она вскоре повисла без движения».
Только в десять часов представители прокуратуры оставили площадь. Пять черных гробов на ломовых телегах двигались по Николаевской улице.
В арсенальной зале Гатчинского дворца, среди чучел и рогов животных, убитых на охоте Александром Вторым, молодой император в генерал-адъютантском мундире и с голубой лентой датского ордена Слона через плечо уже готовил в тесном кругу своих родственников воинствующий манифест о незыблемости самодержавной власти.
Героическая эпоха русской революции уходила в подполье на четверть века.
Художники
Здесь, смотря на поденщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека.
В. Гаршин «Художники»
Блещет на мольберте свежими сгустками масла большой, туго натянутый на подрамок холст. На выцветшем фоне голубеньких обоев, под округлыми портретами Шевченки и Некрасова, молодая женщина у рояля, двое детей и сутулая старушка застыли, пораженные внезапным появлением странного гостя: в комнату вошел обношенный и болезненно истощенный высокий человек с пасмурно горящим взглядом затравленного зверя. За ним тысячи верст и долгие годы изгнания…
Илья Ефимович Репин заканчивает картину «Не ждали».
Он не один. Напротив, у окна за столом, перекрытым блестящей белой клеенкой, позирует дочь его, рыженькая девочка Вера, исподлобья глядя удивленно куда-то вбок голубыми глазами и смущенно скривив повисшую с высокого стула ножку.
Из кресла в глубине мастерской опытным взглядом мастера следит за работой художника, пощипывая седеющую бородку, артиллерийский полковник. Это служащий при петербургском патронном заводе известный живописец Николай Александрович Ярошенко, один из столпов Товарищества передвижных выставок.
Из глубины мастерской, пристально вглядываясь в изображенную группу, то отходя, то бесшумно приближаясь к мольберту, беллетрист и художественный критик Всеволод Гаршин внимательно изучает новую картину автора «Бурлаков».