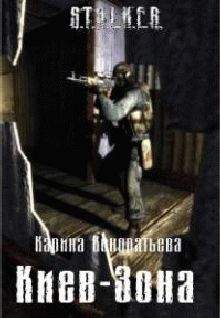Юрий Щекочихин - Рабы ГБ
Она с большим достоинством несла свой крест... Все длинные осенние и зимние вечера мы проводили вместе. Она была удивительно умной, милой и интеллигентной женщиной.
Мы пили морковный чай, пекли картошку, благо все это было в достатке, и говорили, говорили, говорили. О жизни, о поэзии, об архитектуре.
Но однажды меня вызвали в райком партии, якобы прочитать лекцию на партактиве. Я удивилась, так как была беспартийной и никогда в партию не стремилась - ненавидела ложь, которой была проникнута вся "авангардная". В райкоме партии мне указали на дверь второго секретаря. Я вошла. Там сидел начальник районного управления НКВД. Он мне предложил сесть и сказал:
"Вы дружите с полуфашисткой! И обязаны извлечь пользу из этой дружбы..."
Я ошарашенно открыла рот... А он: "Не надо пугаться. И отказываться вам с вашим положением нельзя..."
О, положение свое я знала. Дочь расстрелянного "врага народа", сестра томившегося в ГУЛАГе брата, "японского шпиона".
"Что вы должны делать... - продолжал начальник. - Вам надо влезть к ней в душу и всеми силами добиться, чтобы она открыла вам все карты своей вражеской деятельности".
Господи, какой "вражеской деятельностью" она могла заниматься, если единственным "промышленным предприятием" в нашем районе была общественная баня?
Почти год моя деятельность в качестве Маты Хари не приносила НКВД никакой радости.
И вдруг - засветилась...
В канун Нового года меня откомандировали в Новосибирск выбить гостинцы школьникам для новогодней елки. Я сказала об этом Элеоноре Генриховне. Она даже поднялась со стула: "Умоляю... Отвезите посылку моим детям" (езды от Новосибирска до лагеря, где они томились, было всего-навсего двадцать минут).
Я согласилась, но о посылке - я понимала - должна была доложить НКВД. Мне приказали: в канун отъезда, в полночь, я должна отнести посылку на проверку в НКВД.
Ночь, к моей радости, была темной. Когда заснули не только люди, но и собаки, я, как шпионский резидент, подняла воротник пальто и отправилась в НКВД.
Там посылку вскрыли и все высыпали на стол (шторы при этом они наглухо задвинули). В посылке были: килограмма три сырой картошки, мешочек с черными сухарями, штопаное-перештопаное чистое белье, две пары теплых носков и... мешочек с сахаром.
Сахара было грамм 350-400 - не больше.
Чекисты перебрали всю картошку, перенюхали сухари, прощупали все швы в мешочках и приказали посылку зашить.
А мешочек с сахаром протянули мне.
Я в ужасе отшатнулась: "Зачем?! Мне не надо..."
Они хохотнули: "Тогда сахар отдадим в детский дом", - хотя в нашем районе не было никакого детского дома.
Я вся похолодела и взмолилась: "Верните сахар! Ведь Элеонора Генриховна подумает, что я его присвоила..."
- Фашистам сахар не положен, - отрезал начальник.
- Тогда я скажу ей, что посылку вскрыли вы...
- Что? - заорал начальник и выразительно крутанул пальцем около виска. - Чокнутая, что ли?!
...Лагерь я нашла быстро. Часовой очень благожелательно поговорил со мной, послал в барак солдата, и вскоре к проходной вышла красивая молодая немка. Она сказала, что дети Элеоноры Генриховны на работе, но она передаст им посылку. И назвала свою фамилию. А часовой добавил: "Без сомнения отдаст... Они точно по адресу передают..."
Элеонора Генриховна была очень огорчена, что я не повидала ее детей...
А недели через две после моего возвращения она, встретив меня, сказала: "Больше, пожалуйста, ко мне не заходите..."
Так, по милости этих подонков из НКВД, я в ее глазах оказалась воровкой.
И только сегодня, когда мне уже 78 лет, я рассказываю о том, как гнусно поступили со мной чекисты, которых я люто ненавижу за гибель всех моих родных, за мой позор, за мой страх перед этой страшной организацией.
Адрес на конверте. Не за себя боюсь. За детей, внуков, правнуков".
Лидия БОРОДИНА Москва, 40 - 50-е годы.
"Шла война. В Куйбышев тогда был эвакуирован дипломатический корпус и ряд корреспондентов зарубежной прессы. Меня взяли на работу в кассу приема иностранных телеграмм при Центральном телеграфе: телеграфу нужны были люди, знающие язык, я только что закончила институт иностранных языков.
Однажды какая-то женщина - она оказалась курьером норвежского посольства - вместе с очередной телеграммой подала мне листок бумаги и попросила:
- Переведите мне, милочка, это письмо нашему послу. А я вам билетики в Большой принесу (театр тоже был в Куйбышеве).
Письмо было отвратительно лакейским по содержанию. Она-де впервые в жизни видит людей, которые относятся к ней по-человечески, впервые досыта поела, посол вот недавно котлетами угостил - одним словом, что-то в этом роде.
Сейчас я думаю, что отнесла это письмо в 1-й отдел только потому, что была в это время секретарем комитета ВЛКСМ. Совсем недавно погибла Зоя Космодемьянская, мы все искали любую возможность быть полезным фронту, а тут вдруг такое холуйское письмо.
В 1-м отделе мне сказали: переведите и отдайте. Перевела и отдала. (Спустя два-три года увидела эту самую женщину в Москве, в той же должности, в том же посольстве).
Не знаю, сколько моих заявлений лежало в военкомате, чтобы взяли на фронт, но однажды - я была дома после дежурства - подошла машина, мне дали повестку, и я поехала в полной уверенности, что еду в военкомат, счастливая, что наконец-то поверили (а я ведь дочь "врага народа"), что я скоро пойду на фронт. Но военкомат мы почему-то проехали. Тогда я спросила:
- А куда же мы едем? Я вернусь домой?
- Это от вас будет зависеть, - ответили мне, и тогда я все поняла.
Повезли на улицу Степана Разина, там НКВД. Посадили в кабинете, где была застекленная дверь в соседнюю комнату, стекло прикрыто занавеской. Сидела долго. Нервно позевывала.
Потом пригласили войти. Сначала все по форме. А дальше по нарастающей: "Что же это, Лидия Петровна, вы так компрометируете звание жены советского командира? Ведете себя плохо, как вы представляете себе вашу дальнейшую жизнь?.."
Я ничего не понимаю. А следователь смотрит на меня прямо-таки с гневным упреком и вдруг говорит:
- Мы вам не верим. А если хотите, чтобы поверили, помогайте нам.
Как это?
А так: мы вам скажем, что нам интересно знать. Я в то время была очень вежливой девицей:
- Извините меня, пожалуйста, но я не могу. Я ведь еще учусь в студии, пишу стихи, и это мне совсем не подходит. Конечно, если как та тетка, с котлетами, то я приду и расскажу, потому что она действительно позорит нас перед иностранцами, а так, как вам нужно, - не могу.
Отпустили: "Идите и поразмышляйте о вашем поведении".
(Я, естественно, не думала тогда, что то письмо было провокацией, проверкой меня на патриотизм, но вот почему-то понесла его все-таки в 1-й отдел. А если б оно было искренним выражением благодарности и ту женщину тогда же и арестовали бы... Хотела ли я этого? Упаси бог! Но я это сделала. И сейчас меня в этом моем поступке только то и оправдывает, что она была провокатором).
А потом наступил 1943 год.
У меня перемены. Я еду в Москву. Пропуск получен. У меня фанерный чемодан, на крышке которого еще маминой рукой переписаны мои детские вещи, и... часы. Большие настенные часы с мелодичным звоном.
Сразу все получилось не так, как мыслилось. Жила в чужой семье на положении не то домработницы, не то будущей невестки. Об учебе речи не шло.
А на Кузнецком мосту была странная для тех лет газета. Она называлась "Британский союзник", и у нее было два редактора: советский и английский. Выходила она на русском языке.
Однажды я там проходила и увидела вывеску. Поднялась на второй этаж. Навстречу вышел длинный джентльмен, которого я на хорошем английском спросила, не нужны ли им переводчики.
Кажется, уже через неделю я была сотрудником этой газеты и получила жилье в гостинице "Метрополь", которое оплачивала редакция. Ужасно гордилась. Зарплата - две тысячи в месяц.
Вот тогда-то и позвонила мне какая-то женщина и предложила встретиться возле Моссовета. Она была в синем пальто с серым каракулевым воротником, лет сорока, с миловидным лицом. Наверное, на третьем вопросе, на который я, как и на первые два, получила совершенно невразумительный ответ, я все поняла. И когда она привела меня в чью-то пустую квартиру на улице Горького (теперь-то я знаю, почему эта квартира была пустая), села за стол и приготовилась говорить, то первые слова, которые я сказала, были:
- А я уже догадалась, кто вы. И я согласна.
Да, вот так и было. И слова-то еще не было сказано, а я такая умница-разумница - прямо так и заявила: я согласна. И расписалась о неразглашении тайны. Ст. 121 УК РСФСР.
Что же я делала, выполняя функции секретного сотрудника НКВД? Какие важные сведения могла передать органам двадцатитрехлетняя особа, работавшая в окружении иностранцев?
Что могли делать все эти Джоны, Тэды, Вилли? Им тоже всем по 20 с небольшим, они солдаты в американском или английском атташатах. У каждого есть своя "ханичка" (милая), и интерес тут вполне определенный. Я не была исключением. За мной ухаживали, приглашали на "парти" и говорили о разном. О нашей свободе тоже, и всегда с насмешкой.