Неизвестно - Кублановский Год за год
Но однажды Леша все-таки напрямую обратился с просьбой к христианскому Богу. Дело было после эмиграции в Риме, где он с женой и двумя детьми бедствовал после Вены, дожидаясь отъезда в Штаты. Ни копейки в кармане, и он в отчаянии вошел в первый попавшийся на пути храм. (“Католический?” — по инерции глупо спросил я.) В общем, “если Ты есть, помоги”. Вернулся “домой” в какой-то беженский номер, а там письмо от Иосифа. Вскрыл конверт — а там сто баксов. Вроде “Ты есть” даже и подтвердилось. Но для Леши продолжения не имело. Сильно пьющий “экзистенциалист” — “джентльмен в полном смысле слова”, как определил его в некрологе, присланном мне по электронке, Гандлевский и — не удержался, назвав его “гениальным поэтом”. (Так же в некрологах называли и скончавшихся в последний месяц Парщикова и Генделева. Какой-то мор в последнее время на гениальных русских поэтов.)
Бродский поэзию Лосева не любил (и, морщась, как дурной образчик цитировал “И витал запашок динамита над горячею чашкой какао”). По другим причинам я тоже лосевских стихов не люблю (“Мне не хватает в них „Православия, Самодержавия и Народности””, — хотел я написать вчера в ответ Гандлевскому, но уж не стал хулиганить). Однако именно поэзия Лосева в постсоветской России нашла своих адептов — среди культурологического и поэтического мира Москвы; много сейчас разномастных “юношей архивных” считают его своим и любят его стихи.
Странная пословица, приводимая Чичиковым Собакевичу: “Мертвым телом хоть забор подпирай”.
В Москве проходит завершающий тур Евровидения — очередной, традиционной уже, коммерческой выдумки шоу-бизнеса. Накануне в “Олимпийском” в сопровождении хозяина Первого канала Эрнста заинтересованно побывал Путин и одобрительно высказался про размах подготовки.
13 мая, среда.
Вечером — в Москву.
Как долго я к этому шел: глядеть на каждое событие — историческое ли, современное — без идеологических шор, не с обзорной точки идеологического догмата, но только с точки зрения правды как таковой, здравости как таковой, наконец нравственного чувства как такового.
Новый Патриарх публично высказывается теперь по каждому серьезному поводу: будь то юбилей Гоголя или 9 Мая. Оказывается, это была война православных славян с еретиками-тевтонами. Я утрирую, но немного: “В этой войне все русские были верующие”. Включая и бездарное командование, устилавшее русскими трупами поля сражений, и смершевцев, и политсволочь, и упырей из НКВД.
Как хорошо, твердо писали в XIX веке и непрофессионалы. Анненков о случайной встрече с Гоголем в Бамберге: “Мы еще немного постояли у дилижанса, когда раздалась труба кондуктора. Гоголь сел в купе, поместившись как-то боком к своему соседу, немцу пожилых лет, сунул перед собой куда-то пакет с пирожками. <…> Затем он поднял воротник шинели, которую накинул на себя при входе в купе, принял выражение мертвого, каменного бесстрастия и равнодушия, которые должны были отбить всякую охоту к разговору у сотоварища его путешествия, и в этом положении статуи, с полузакрытым лицом, тупыми, ничего не выражающими глазами, еще кивнул мне головой… Карета тронулась” (П. В. Анненков. “Литературные воспоминания”. М., 1960. Тираж 45 000 экз. — баснословные времена!)
Комично-остроумное замечание Карла Маркса о России: “…там действительно только и могут удачно составляться и работать союзы между нелепыми пророками и нелепыми последователями” (восп. Анненкова).
При этих словах Маркс кивнул на Анненкова — как бы в качестве примера — единственного русского на той марксистской сходке в Париже.
14 мая, Переделкино.
На рассвете за иллюминатором бугристая темно-голубичная облачная равнина не казалась неподвижной: словно ее массы перемещались и исподволь расступались — настоящий Солярис.
“Нам всегда надлежит помнить участь Царьграда и Византийской империи для того, чтоб за пустыми занятиями не потерять своего государства” (Петр I, 1721). Крепко сказано. Но… смутительно для русского сердца.
17 мая, воскресенье, половина первого ночи.
Переделкино в полной непроницаемой темноте. Ни одного фонаря.
Вечер памяти Гачева в ЦДЛ. Дивные дочки, внучки. Полный зал славных русских интеллигентов, побитых жизнью (в основном). Я говорил о незлобивости Георгия; так и вижу его идущим переделкинской дорожкой своею несколько разбалансированной походкой. Уходящая натура.
Переключал телекнопки, чтобы, так сказать, подержать руку на пульсе Отечества. Да-а, по пути ничтожности далеко ушло и, видимо, увело массы ТВ. Вдруг на Первом канале… Патрисия Каас на Евровидении. Сказать, что это тень той, которую я в Мюнхене конца 80-х посчитал чуть ли не новой Пиаф, — значит ничего не сказать. Подменили человека — от прежней только фамилия да имя. Никакой силы, никакой живой красоты. Вот что шоу-бизнес делает с человеком: вурдалак выпил из бедной всю кровь — ничего не осталось.
Какая-то певичка (на обсуждении финала Евровидения): “Честное слово, я не думала не гадала, что Господь выделит нам такие бонусы”.
Шоумен с зачесом под Грибоедова: “Пусть другие телеканалы, другие страны попробуют сделать что-нибудь подобное этому шоу! И не потчуют нас больше своей тухлятиной! Ура, Россия! Ура, Первый!” (канал).
Бесстыжие, гордятся и не скрывают, что на всю эту дребедень было потрачено в два раза больше денег, чем в прошлом году затратили европейцы.
Кто-то: “Они там думают, что у нас тут медведи ходят по улицам. А мы — европейское государство!”
За медведей обидно. За что их, мишек? Они хорошие.
Конкурс Евровидения в Москве выиграл какой-то соплячок из Норвегии. Когда после его спросили (на “пресс-конференции”, которую опрометчиво транслировали в прямом эфире), как он относится к разгону гей-парада, наделавшему столько шуму, пацан резонно и простодушно ответил: “Зачем утром было тратить на это силы, если вечером всех и так ждал самый грандиозный в Европе гей-парад”. (Короткая заминка, и затараторили о другом.)
21 мая, четверг, 2245.
Умер актер Олег Янковский. Все телеканалы сменили сетку и — о нем. Первый канал долго “отмалчивался”, и только когда Второй (“Россия”) объявил, что фильм о Янковском будет в 2305, тотчас сообщил, что у него — о нем же — в 2250: даже и тут у них конкуренция.
Последняя роль Янковского — митрополита Филиппа (!) — и последнее интервью — в облачении, митре и… со своей гнутой трубкой в руке: “Я человек верующий, хотя в этих делах мало что понимаю”. Колоритный был артист — играл у Тарковского, хорошо.
Еще месяц назад, уже больной, встречался с приезжавшим на день в Москву Де Ниро. “Мы вместе проказничали на Моск. фестивале лет 20 назад”… В 90-е стал он вполне в тусовке; красавец; при деньгах; опекали олигархи и — бац. Рак и смерть.
25 мая, понедельник.
Перед отъездом Паша сунул мне “Континент” № 139.
Здесь очередное “культовое” — Седаковой о Пастернаке. Пастернак не только “нефилософствующий философ”, но и — “небогословствующий богослов”. Вот так. И к последнему определению — примечание: “Этой стороной пастернаковской мысли занимается в последнее десятилетие (!) А. Шмаина-Великанова”. К небольшому эссе Седаковой 204 примечания. Культ Пастернака. Толкователи и панегиристы его романа (как и в случае с “Улиссом” Джойса) создали целое живаговедение — на дрожжах романа, далеко не великого, скорее слабого (но все равно люблю и помню).
Подумать только: вот уже 10 лет Аня Шмаина садится поутру заниматься “этой стороной пастернаковской мысли”: Пастернак как “небогословствующий богослов”. 10 лет — но такая тема, что конца-края не видно.
Кстати, сам Пастернак (судя по его репликам в письмах) такого культа терпеть не мог — и убежден, что искренне.
Ник. Некрасов завещал своей возлюбленной (французской актрисе) Селине Лефрен “десять с половиной тысяч”. Психологически решил, видимо, так: десять — оскорбительно круглая цифра — нехорошо; одиннадцать — ну ни то ни се, двенадцать — уж чересчур.
В сберкассе на Поварской получал пенсию и решил купить 100 евро.
Кассирша взяла в пальцы купюру:
— У меня всего одна…
— Мне только сотню и нужно.
— Не советую, правда, какая-то она… нехорошая… — И кассирша с наигранной брезгливостью посмотрела на свеже-зеленую купюру, как будто речь шла о каком-нибудь лежалом куске говядины.
В воскресенье с нами из Кламара в Париж после литургии возвращалась в автомобиле еще и одиннадцатилетняя балованная москвичка, которая тут учится в пансионе. Слышу, вдруг по мобильнику набрала Москву:
— Юлиан… Я уже в Париже, слушай, что я тебе скажу. Я перед отъездом сюда была на Евровидении и видела твоего папу! Он меня то ли не узнал, то ли не заметил. Ты знаешь, что он был на Евровидении? Ну, я так и думала. Слушай, он был не с твоей мамой! С какой-то другой тетей, слышишь? Нет, он с ней обнимался и целовался…
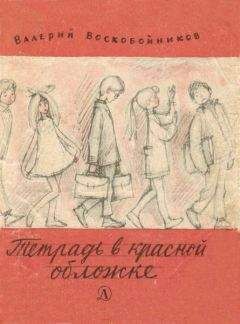

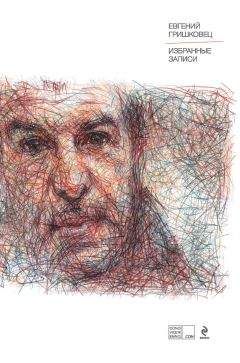
![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/uploads/posts/books/142120/142120.jpg)
