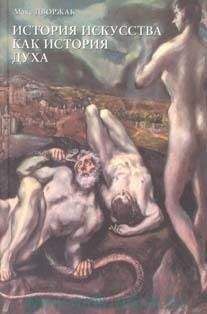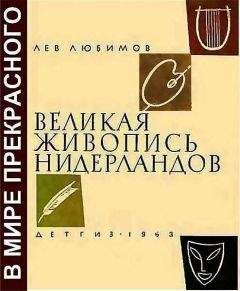Терри Дюв - Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность
Почему это явление реального, завершающее «кубистский» период Дюшана, дает радикально отличное от общепринятого толкование кубистского тупика? И почему оно делает Дюшана истинным теоретическим наследником Сезанна, «разрешая» его эдиповский конфликт с «отцом» кубизма? Потому что вместо того, чтобы, подобно ортодоксальным кубистам, обезвреживать урок Сезанна, искать в нем позитивную составляющую, Дюшан подхватывает сезанновское противоречие и доводит его до собственной невозможности.
1. — Сезанн завершает Пуссена, создает последнюю
жизнеспособную версию классической теории живописи, предполагающей соприрод-ность субъекта и мира. Но создает ее, совершая по отношению к Пуссену величайшее насилие, открыто признавая крушение классического Изображения и, так сказать, удерживая взаимоисключающие термины — субъект и мир — вместе при условии того, что это будут не классические субъект и мир, а мир как горизонт и субъект как бытие-в-мире новейшей феноменологии.
2. —Кубисты принимают сезанновское противоречие
в форме альтернативы, лишь один термин которой становится предметом их разработки: они пытаются спасти или восстановить самообладание и единство классического субъекта ценой активного разложения объектного мира. Отсюда — коренное заблуждение, заставляющее их считать Сезанна «глубоким реалистом», а себя самих — «реалистами представления».
3- — Дюшан делает следующий шаг в заданном Сезанном направлении, понимая, что после него на развалинах классического Изображения уже не может быть выстроен никакой классицизм. Это противоречие более не может сохранять жизнеспособность, и кубисты всего-навсего искусственно продлевают его век — подпадая под определение академизма,—путем раскола сезанновского противоречия надвое. Истинное теоретическое усвоение Сезанна требует совершения в живописи еще одного «убийства отца»: поскольку Сезанн должен был убить Пуссена, чтобы стать его продолжателем, то чтобы продолжить Сезанна, надо, в свою очередь, убить и его. Иными словами, надо не уходить от сути исторического урока Сезанна —противоречивого соединения мира и субъекта, а выразить его в негативной форме, превратить последнюю возможность в первичную невозможность: ни мира, ни субъекта.
Начиная, несомненно, с «Грустного молодого человека», но, возможно и раньше, уже в «Сонате», Дюшан вступает сразу на оба пути установленной Сезанном альтернативы. И мы знаем, почему: если кубисты постепенно сузили круг своих сюжетов до единственного жанра — натюрморта (после 1910-1911 годов пейзаж и обнаженная натура почти исчезают из их картин, портрет трактуется как натюрморт, а автопортрет — особенно важный жанр для Сезанна — исчезает полностью), то Дюшан пишет в это время исключительно ближайших родственников, а прежде всего —себя. Серия мужских фигур отмечает нить его желания (стать живописцем) цепочкой в высшей степени обманчивых идентификационных образов. Несомненно, художник воображаемо собирает себя в каждой из этих задержек, образуемых картинами в течении желания. Но раз за разом «собранность» ослабевает. Отнюдь не ведя, как говорит Шварц, к индивидуации живописца, серия достигает апогея в «Пассаже» — сцене тотального расчленения я. Более того, внутри каждой картины «элементарный параллелизм», заимствованный из хронофотографий Марея, упрямо подрывает желаемую идентификацию, которая поддерживается теперь, как говорит Лакан, только «в последовательности моментальных опытов».
Серия женских фигур, которая вполне может быть прочтена как метафора живописи, то есть как одновременно желаемый объект и мир (в сезанновском смысле), является в некотором смысле местом «невроза трансфера», посредством которого живописец надеется родиться в живописи. Эта серия столь же строго, как и мужская, соответствует дюшановской интерпретации кубистского разложения. И все же это разложение следует отличать от первого: оно относится уже не к порядку «элементарного параллелизма», а к порядку «раскалывания». Оно проистекает из разрушительного влечения, направленного на мир и объекты, словно обретение живописцем своей идентичности требует убийства живописи. И приходит — в той же самой картине — к той же, что и первое, точке: к насилию, разрыву желаемого тела невозможным мертвым временем четвертого измерения, к женщине, ставшей женщиной, и к живописи, ставшей живописью в тот самый «момент», когда она оказывается живописью мертвой. В этой точке, в этом первом апогее картины мы усмотрели появление реального. Больше нет воображаемого колебания, метания между «если это ты, то меня нет», и «если это я, то нет тебя», говоря опять-таки словами Лакана16, между двумя терминами альтернативы, в форме которой кубисты приняли сезанновское противоречие и лишь второй термин которой они разрабатывали. Дюшан, принявший оба термина, доводит их вплоть до реального, где сезанновский синтез оказывается невозможным. Он не выбирает Я в ущерб миру, что было кубистским «решением» и вскоре стало таковым для большей части раннего абстракционизма. Но не выбирает и мир в ущерб Я (такое «решение» заявит о себе в истории искусства лишь после Второй мировой войны, когда социальная эволюция повлечет за собой форсированную шизофренизацию субъекта и «революционный» оптимизм абстракции иссякнет). И, конечно, он уже не может выбирать Сезанна, или сохранение мира и Я в противоречии. Исторические условия более не допускают этого: нельзя убить классическую живопись дважды. Дюшану остается единственный выбор—в пользу мертвой живописи: ни мира, ни Я. То-гда-то, после того как воображаемое сошло со сцены и явилось реальное, в дело вмешивается символическое.
Символическое...
...посредничает между «Девственницей» и «Новобрачной», как «путник, способный к мгновенному переходу» (Сюке). Оно осуществляет переход, будучи одновременно чертой и переступанием этой черты, изменением состояния живописи в момент насилия живописца над ней и появлением субъекта-живопис-ца, который рождается из этого изменения. Как мы видели, оно возникает на месте недостающей буквы i, которая превратила изображаемую женщину в повешенную самку и затем повторила это превращение с помощью других букв — составляющих слова «Переход от девственницы к новобрачной» в левом нижнем углу картины.
Приведенное к этой точке возникновения, откровение символического оказывается в точности тем же самым, что и усмотренное Лаканом в формуле триме-тиламина: «Нет другого слова, другого решения вашей проблемы, кроме слова. [...] И все, что слово это хочет сказать, сводится к тому, что оно не что иное, как слово». Как таковое это возникновение означающего, которое открывается Дюшану в «Переходе», не означает ровным счетом ничего, кроме того, что означающее возникает. Едва наметившись, эта солипсическая тавтология требует речи, которая раскроет ее полнее, и языка, который будет от ее имени законодательствовать. Тут могли бы подойти речь сексуальности и «лялязык» отцовского закона —если прислушаться к их звучанию не столько в личной истории, сколько в истории искусства. Ибо именно там это означающее обретает свой статус, когда биография живописца наконец позволяет ему принять ее на свой счет как ретроактивный резонанс его отцовской фамилии: Дюшан от живописи29. Эта фамилия вдруг обретает новое звучание и, помимо приписки, обеспечивает переход, поскольку мы получаем ее в сопровождении предпосылок и последствий. Она приходит к нам уже истолкованной в свете судьбы произведений художника, а также искусства и комментариев, ими порожденных. Именно нам Дюшан адресовал «Переход от девственницы к новобрачной», так же как именно нам адресовал сновидение об инъекции Ирме Фрейд. Зрители создают картину — разделяя ответственность за нее с художником,— но во вторую очередь.
Это простое обращение к потомкам, этот разрыв с присутствием в настоящем уже сами по себе являются критикой кубизма и глубоким теоретическим осмыслением Сезанна. Ими подразумевается, что современный живописец, стремящийся сформировать под эгидой Сезанна «новый язык», не может добиться успеха без понимания того, что он передает это притязание в руки своих последователей. У современной живописи есть традиция, но она впереди — таково теоретическое содержание «Перехода от девственницы к новобрачной» как перехода необратимого. В этом смысле он уже на вербальном уровне преподносит формулу постсезаннизма или даже формулу той исторической необратимости, которую Сезанн предписывает своим последователям. Взявшись «воссоздать Пуссена согласно природе», Сезанн хотел сохранить классическую аксиому живописи, сводящуюся к взаимозаменяемости художника и зрителя. Однако вместо занимаемой ими по очереди альбертианской точки зрения он ввел два бытия-в-мире, эквивалентных по отношению к общему горизонту. Если некоторая пространственная однородность еще и может быть сохранена, то идеальная временная обратимость, вытекающая из теории зрительной пирамиды, безвозвратно потеряна. Время зрителя более не совпадает с временем живописца. Между «видением» зрителя, которого Сезанн просил смотреть на его картины так же, как он смотрит на окружающую природу, и его собственным видением вкралось необратимое время, каковое является вектором самой этой просьбы и тем самым ее исторической функции. Требование Сезанна к художникам, которые пришли после него и отталкивались от его «мировидения», сводилось к тому, чтобы они изменили свое мировидение, изменив живопись. Кубисты-ортодоксы не вполне это понимали: их живопись находилась под необратимым влиянием их исторического положения художников после Сезанна, но не включала в себя теорию этой необратимости. Они открыли эпоху «исторических авангардов», но в своей регрессивной верности сезанновскому классицизму оказались неспособны к осмыслению того, что это означает в теоретическом плане.