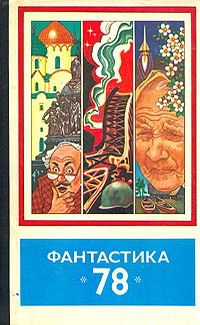Иван Бунин - Чистый понедельник (сборник)
«Какая радость – существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно – только видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству… Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы – Эредиа, Леконт де Лиль достигли необычайного совершенства в описаниях».
В записках Пушешникова есть место удивительное, раскрывающее „тайну" бунинского мастерства».
Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».
Что это значит – «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывает гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.
«Найти звук» – это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и как музыка.
Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.
Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов («ворожбу из кругообразных непрестанных движений»):
«И днем – и ночью – кот – ученый – все ходит – по́ цепи – кругом».
В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным.
Из необъятного числа русских слов он безошибочно выбирал для каждого своего рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, связанные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.
Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает из самых разных мест все драгоценные частицы, нужные для этого рассказа.
Если бы сейчас существовал сказочник, подобный Христиану Андерсену, то он, может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи, вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, лохмотьев туч и сизых траурных риз, а писатель располагает их в своем каком-то особом порядке, обрызгивает живой водой, и вот – в мире уже живет новое произведение – поэма, стихи или повесть, – и ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.
Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях – от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских проклятий, а от них – до меткого, разящего языка орловских крестьян…
Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем.
Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую бурную, несмотря на элегичность автора, неспокойную, стремительную в своем движении жизнь.
Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все в той или иной мере связаны с его биографией), часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина» – очень ценный свод воспоминаний и материалов о Бунине.
Жизнь Бунина вся до последних лет была отдана скитаниям и творчеству. Недаром Бунин написал рассказ о матросе Бернаре с мопассановской яхты «Милый друг».
Бернар, великолепный моряк, умирая, сказал: «Кажется, я был неплохим моряком». Бунин писал о себе, что он был бы счастлив, если бы в свой смертный час мог бы повторить по праву слова Бернара и сказать: «Кажется, я был неплохим писателем».
Бунин был смел, прям, честен в своих убеждениях. Он один из первых в своей «Деревне» развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками.
У Бунина кроме блестящих, совершенно классических рассказов есть необычайные по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте.
Бунин – первоклассный поэт чистой, если можно так выразиться, «Кастальской» школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них есть подлинные шедевры по выразительности и передаче трудноуловимых вещей.
Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии, прозе, в любви к жизни и своей Родине и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим.
Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, иногда жестоко ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была родная страна, Россия.
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
Константин Паустовский
Январь 1961 г.
Таруса
Чистый понедельник
Повести и рассказы
На край света[2]
То, что так долго всех волновало и тревожило, наконец разрешилось: Великий Перевоз сразу опустел наполовину.
Много белых и голубых хат осиротело в этот летний вечер. Много народу навек покинуло родимое село – его зеленые переулки между садами, пыльный базарный выгон, где так весело в солнечное воскресное утро, когда кругом стоит говор, гудит бранью и спорами корчма, выкрикивают торговки, поют нищие, пиликает скрипка, меланхолично жужжит лира, а важные волы, прикрывая от солнца глаза, сонно жуют сено под эти нестройные звуки; покинуло разноцветные огороды и густые верболозы с матово-бледной длинной листвой над криницею, при спуске к затону реки, где в тихие вечера в воде что-то стонет глухо и однотонно, словно дует в пустую бочку; навсегда покинуло родину для далеких уссурийских земель и ушло «на край света»…
Когда на село, расположенное в долине, легла широкая прохладная тень от горы, закрывающей запад, а в долине, к горизонту, все зарумянилось отблеском заката, зарделись рощи, вспыхнули алым глянцем изгибы реки, и за рекой как золото засверкали равнины песков, народ, пестреющий яркими, праздничными нарядами, собрался на зеленую леваду, к белой старинной церковке, где молились еще казаки и чумаки перед своими далекими походами.
Там, под открытым небом, между нагруженных телег, начался молебен, и в толпе воцарилась мертвая тишина. Голос священника звучал внятно и раздельно, и каждое слово молитвы проникало до глубины каждого сердца…
Много слёз упало на этом месте и в былые дни. Стояли здесь когда-то снаряженные в далекий путь «лыцари». Они тоже прощались, как перед кончиной, и с детьми и с женами, и не в одном сердце заранее звучала тогда величаво-грустная «дума» о том, «як на Чорному морі, на білому камені сидить ясен сокіл-білозірець, жалібненько квилить-проквиляе…». Многих из них ожидали «кайдани турецькії, каторга бусурманськая», и «сиві тумани» в дороге, и одинокая смерть под степным курганом, и стаи орлов сизокрылых, что будут «на чорнії кудрі наступати, з лоба очі казацькії видирати…»[3]. Но тогда надо всем витала гордая казацкая воля. А теперь стоит серая толпа, которую навсегда выгоняет на край света не прихоть казацкая, а нищета, эти желтые пески, что сверкают за рекою. И как на великой панихиде, заказанной по самом себе, тихо стоял народ на молебне с поникшими, обнаженными головами. Только ласточки звонко щебетали над ними, проносясь и утопая в вечернем воздухе, в голубом глубоком небе…
А потом поднялись вопли. И среди гортанного говора, плача и криков двинулся обоз по дороге в гору. В последний раз показался Великий Перевоз в родной долине – и скрылся… И сам обоз скрылся наконец за хлебами, в полях, в блеске низкого вечернего солнца…
IIПровожавшие возвращались домой.
Народ толпами валил под гору, к хатам. Были и такие, что только вздохнули и пошли домой торопливо и беспечно. Но таких было мало.
Молча, покорно согнувшись, шли старики и старухи; хмурились суровые хозяйственные мужики; плакали дети, которых тащили за маленькие ручки отцы и матери; громко кричали молодые бабы и дивчата.
Вот две спускаются под гору, по каменистой дороге. Одна, крепкая, невысокая, хмурит брови и рассеянно смотрит своими черными серьезными глазами куда-то вдаль, по долине. Другая, высокая, худенькая, плачет… Обе наряжены по-праздничному, но как горько плачет одна, прижимая к глазам рукава сорочки! Спотыкаются сафьяновые сапоги, на которые так красиво падает из-под плахты белоснежный подол… Звонко, с неудержимой радостью пела она до глубокой ночи, бегая на реку с ведрами, когда отец Юхыма твердо сказал, что не пойдет на новые места! А потом…