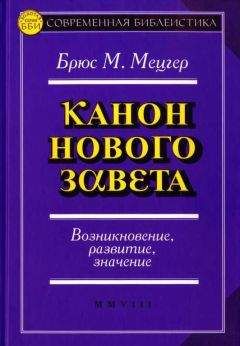Юрий Карабчиевский - Воскресение Маяковского
Поэт не человек поступка, он человек слова. Слово и есть поступок поэта. И не только слово-глагол, слово-действие, но любое слово, его фактура, его полный внутренний смысл и весь объем связанных с ним ощущений. Те слова, что звучат из уст Маяковского на самых высоких эмоциональных подъемах его стиха, что бы ни пытался он ими выразить: гнев, жалобу, месть, сострадание,- живут своей независимой жизнью и вызывают то, что и должны вызывать: простое физиологическое отталкивание. Впрочем, очень скоро по мере чтения пропадает и это чувство.
Нагнетение анатомических ужасов не усиливает, а ослабляет стих, вплоть до его полной нейтрализации. И не только оттого, что притупилось восприятие, но еще и от отсутствия однозначной нагрузки. Нравственный смысл, психологическая направленность того или иного кровавого пассажа не есть его собственное внутреннее свойство, а каждый раз произвольно задается автором. Отрицательные ужасы "Войны и мира", положительные ужасы "Облака в штанах" и "Ста пятидесяти миллионов", отрицательные, а также положительные ужасы внутри чуть не каждого стиха и поэмы... Ужасы, ужасы...
Но и уста, такое говорящие, не могут остаться девственно чистыми. Здесь работает закон обратного действия слова. Человек, многократно и с удовольствием повторяющий: "кровь, окровавленный, мясо, трупы", да еще к тому же время от времени призывающий ко всякого рода убийству,- неминуемо сдвигает свою психику в сторону садистского сладострастия.
В раннем, романтическом Маяковском этот сдвиг очевиден.
Именно здесь, на этом сдвиге, в такой романтике, произошла его главная встреча с Революцией.
Ко времени пришествия Революции Маяковский, единственный из всех современников, был уже готовым ее поэтом. И дело тут не в идейной его подготовленности, которая, кстати, очень сомнительна. Никакого марксизма, никаких социальных аспектов, насыщавших журналы и книги десятых годов, мы не встретим в тогдашних его произведениях. Даже слово "пролетарий" или хотя бы "рабочий" - тщетно искать, он такого как будто не слышал. Его народ - студенты, проститутки, подрядчики. Но все это не имеет никакого значения, здесь важно другое.
К семнадцатому году молодой Маяковский оказался единственным из известных поэтов, у которого не просто темой и поводом, но самим материалом стиха, его фактурой были кровь и насилие. Тот, кто на протяжении нескольких лет сладострастно копался голыми руками в вывернутых кишках и отрубленных членах, был вполне готов перейти к штыку и нагану.
На словах, только на словах. Но об этом только и речь.
3 У него была удивительная способность к ненависти. Он мог ненавидеть все и вся, от предметов обихода до знаков препинания ("С тех пор у меня ненависть к точкам.
К запятым тоже").
Каждый новый пункт его автобиографии кончается признанием в какой-нибудь ненависти.
Эта ненависть билась в нем и металась, прорываясь то в одну, то в другую сторону. В этом было что-то несомненно истерическое. Революция явилась для Маяковского благом прежде всего в том оздоровительном смысле, что дала его ненависти направление и тем спасла его от вечной истерики. На какое-то время он успокоился, обрел равновесие. Он стал ненавидеть только туда. Вся энергия была брошена в одну сторону. Концентрация при этом вышла фантастической, даже для привычного к Маяковскому уха, так что многим пришлось привыкать заново.
Пусть горят над королевством бунтов зарева!
Пусть столицы ваши будут выжжены дотла!
Пусть из наследников, из наследниц варево варится в коронах-котлах!
А еще Революция дала ему в руки оружие.
Раньше это были только нож и кастет, теперь же - самые различные виды, от "пальцев пролетариата у мира на горле" до маузера и пулемета. Он и пользовался ими отныне по мере надобности, но всем другим предпочитал штык. Это слово стало как бы материальным выражением его отношения к миру: "пугаем дома, ощетинясь штыками", "штыки от луны и тверже и злей", "встанем, штыки ощетинивши", "дошли, штыком домерцав", "как штыком, строкой просверкав"... Ряд достаточно однообразный, но он продолжается в бесконечность.
Странно, именно этот ряд, с повтором простого короткого слова, в большей мере, чем любые другие страшные ужасы, заставляет задуматься над вопросом: обладал ли Маяковский воображением, этим первейшим свойством поэта, то есть попросту видел ли он то, что писал?
Представлял ли он, к примеру, в момент произнесения, как работает его любимый инструмент, как он туго разрывает ткань живота, как пропарывает кишки, дробит позвоночник?
Мы знаем, что в жизни Маяковский не резал глоток, не глушил кастетом, не колол штыком. Он и на войне-то ни разу не был и даже в партию, как сам признается, не вступил, чтобы не попасть на фронт. Он всегда действовал только пером ("Перышко держа, полезет с перержавленным"). Так, может быть, это такая система образов и знаменитое "я хочу, чтоб к штыку приравняли перо" следует прочитывать наоборот?
В том смысле, что штык - это не штык, а перо, пулемет - пишущая машинка, а кастет... ну, допустим, сильное слово? И все это - только символы?
Теперь не промахнемся мимо.
Мы знаем кого - мети!
Ноги знают, чьими трупами им идти.
Это как раз стихи о направлении, о том, что теперь-то оно известно. Но и это не страшно и не буквально. "Не промахнемся", "мети" - все это символы... Прекрасно, но что символизируют трупы?
А мы - не Корнеля с каким-то Расином - отца,- предложи на старье меняться,- мы и его обольем керосином и в улицы пустим - для иллюминаций.
Нет, не выходит, не вытанцовывается. Есть слова, столь сильные сами по себе, что не могут быть тенью других слов, не могут выражать иные понятия, кроме тех, что положены им от века. Труп - это всегда труп, отец - это всегда отец, и поэт - это всегда поэт, человек с гипертрофированным воображением. Так представлял ли он себе все то, что писал, видел ли, допустим, эти самые трупы, ощущал ли чье-то мертвое тело под твердыми знающими своими ногами? Или, опять же, своего отца, объятого пламенем и бегущего по улице,- видел Маяковский или не видел?
Ситуация складывается таким образом, что любой ответ на этот вопрос губителен для поэта.
Если самые страшные в мире слова - это только символы чего-то иного, более мирного и обыденного, то что означают все остальные? Цена слова в такой языковой системе в конце концов свелась бы к нулю.
Если же значение слов не снижено...
Не станем притворяться, будто нам неизвестно, что метафора - всегда аналогия. Но аналогия предполагает мгновенное равенство, эквивалентность чувственного восприятия. "Идти трупами" не обязательно значит идти трупами - но нечто столь же жестокое и страшное: убивать много и без пощады, не жалея, не оглядываясь, не задумываясь. Поэтическая метафора тем и отличается от обыденного речевого штампа, что не является только тенью реальности, а имеет собственную живую плоть, вполне реальную в мире воображения. И в этом смысле "идти трупами" - это значит именно идти трупами, именно этот, буквально понятый смысл должен рождать необходимое ощущение. Например, Маяковский говорит:
Ко мне, кто всадил спокойно нож и пошел от вражьего тела с песнею!
Вполне возможно, что это всего лишь аллегория - жестокой твердости и верности делу мщения. Но аллегория эта начинает работать только с того момента, как мы вообразим себе живого человека, производящего описанные действия. Человека, безусловно, ненормального, безумца-садиста: кто иной станет всаживать нож спокойно, да еще и петь после этого?
Итак, если все эти чудовищные строки, непроизносимые слова и невообразимые картины Маяковский употребляет только как символы, только во втором, переносном значении, уподобляя их речевому штампу (как говорят: "убийственно красив", "смертельно устал"), если он не чувствует их собственного жуткого смысла - то, значит, он человек без воображения и поэзия - чуждая ему область.
Но если он все это видит и чувствует, если все слова на своих местах и означают то, что и должны означать,- то дела обстоят, быть может, еще печальней. Тогда перед нами очень страшный и, вне всяких сомнений, больной человек. Перед нами тот самый садист-параноик, спокойно всаживающий нож по нескольку раз на дню и шагающий трупами, от тела к телу, распевая свои сумасшедшие песни...
Я думаю, ни одна из этих гипотез не ложна, но и не верна до конца, и истина, как это часто бывает и случае жестких альтернатив, помещается где-то в иной плоскости.
Застывшая детская обида Маяковского, ненависть к могущим и имущим, месть не отдающим и не отдающимся - сплошь и рядом действительно несет в себе черты патологии. Но и цена сильных и страшных слов в его поэтическом мире иная, в общем случае - более низкая. Она снижена, во-первых, частым употреблением, постоянным доведением стиха до выкрика, до предела слышимости, где и слабые слова звучат как сильные, а сильные уже почти не выделяются. А тогда и сами понятия и действия, обозначаемые этими словами, неизбежно падают в цене и утрачивают присущий им смысл. В этой неопределенности смысла теряется не только читатель, но и автор.