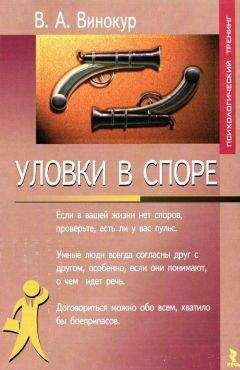Свободин А.П. - Зримое время
Пардон общий!
"Балалайкин и К°". Петербургские сцены сатирического романа М.Е.Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия".
Пьеса в двух частях С.Михалкова.
Постановка Г.Товстоногова.
Художник И.Сумбаташвили.
Театр "Современник". Москва. 1973.
Никогда еще подобная проза Салтыкова-Щедрина не становилась предметом театрального спектакля. Сатирический роман, построенный на так называемых "образах-масках", на афоризмах и притчах, роман-фельетон, прелесть и сила которого в поворотах фантазии могучего и острейшего ума, еще не так давно представлялся "несценичным".
В самом деле, трудно было представить, как воплотить на сцене действие "умственное" и сможет ли оно держать интерес зрительного зала.
Спектакль театра "Современник" имеет значение сценического перво- открытия сатиры Щедрина, написанной не в реалистической манере, как, например, "Господа Головлевы" или "Пошехонская старина", а в манере условной интеллектуальной прозы.
Используя возросший культурный уровень современного зрителя, театр создал динамическое сценическое представление, где напряжение поддерживается выпуклым, рельефным показом течения гневной и язвительнейшей мысли великого сатирика.
Спектакль создает в зрительном зале атмосферу глубочайшей и непрерывной увлеченности, если можно так сказать, театром щедринского слова, которое актеры делают как бы зримым. Эта атмосфера пронизана непримиримостью к таким явлениям в нашей жизни, как эгоизм, общественная инфантильность, трусость, всяческое приспособленчество, краснобайство, беспардонность, наконец, просто глупость. Все эти "объекты" великого русского сатирика отнюдь не исчезли с лица земли. Если верно, что история учит, то воспитательное значение спектакля неоспоримо.
То, что происходит в "Современной идиллии" Щедрина, отнюдь не царство фантазии, удаленное от реальности на такое громадное расстояние, какое под силу лишь гениальному воображению художника. Когда в 1917 году открылись архивы царской охранки, то среди тридцати тысяч доносов, относящихся к эпохе щедринского романа, оказались доносы не только на революционеров той поры, но и на вполне мирных интеллигентов, размышлявших о желательности и возможности каких-либо перемен, доносов, принадлежащих перу представителей всех сословий: от петербургских дворников до экстраординарных профессоров университета. Изрядное число было таких, состав преступления в которых изображался следующим образом: "поздно жгут свет"; "не пьют водки"; "рассуждают"; "видели с книжками"; "приходят молодые люди числом более трех"; опять: "не пьют водки" (ох, этот "вечный мотив" российской околоточной подозрительности!). Не правда ли, как то похоже на диалоги "Современной идиллии"...
Обратим внимание на даты публикации знаменитого романа. Это чрезвычайно важный момент его истории...
Начавшись в "Отечественных записках" в 1877—1878 годах (первые одиннадцать глав), он продолжился в 1882—1883 годах (оставшиеся восемнадцать глав).
Между этими двумя временными точками уместилась эпоха. В каких-нибудь четыре-пять лет произошло окончательное крушение надежд русского либерализма, была подорвана вера народнических пропагандистов в историческую дееспособность российского мужика, произошел давно копившийся взрыв политического отчаяния — русский революционный террор.
"Народная воля" осуществила десятки убийств, в том числе убийство "царя-освободителя"!
Наконец, в это самое время либеральная интеллигенция покидала призрачные знамена "эпохи великих реформ", уходила в тихое духовное уединение, в забавы плоти, малые дела, чистую науку, ортодоксальное и не ортодоксальное христианство, в искусство для искусства, в философское богословие и религиозное сектантство и т.д. и т.п... Дым от гласного и келейного сжигания всего, чему еще недавно поклонялись, разносил запах душевной гари по многоликой Российской империи. В это самое время Салтыков-Щедрин, завершая публикацию "Современной идиллии", публично и резко заявляет тем самым, что остается под знаменем Чернышевского и Некрасова. Трудно переоценить гражданское мужество сатирика. Его любимый журнал подвергается второму предупреждению, а через год закрывается вовсе. Но убив "Отечественные записки", русский царизм в романе Щедрина получил записки об отечестве, исполненные убийственного и горького сарказма...
Сцена открыта и едва освещена сверху зеленоватым светом. То ли луна, то ли отсвет зеленовато-голубых мундирных стен. Мундирное происхождение туманно-ночного интерьера подчеркивается устроенными на стенах, как на бравой груди, группами орденов Российской империи. Импозантные эмалевые овалы, мальтийские кресты, покоящиеся на золотых ребристых о многих лучах звездах; "Анны", "Владимир с мечами и бантами", "Владимиры" без мечей... А по верху, как на шинельных обшлагах, пущен коричневый бархатный кант. Склеп? Но обратимся к мебели. Вольтеровское кресло, стол и стулья красного дерева, того же дерева колонная тумба. На тумбе свечной канделябр. Свеча и на столе, а рядом папиросница орехового дерева. На кресле свернут шерстяной плед в коричневую клетку. А со стороны зрительного зала вся сцена как бы поддержана рядом свечных бра под зелеными колпачками.
...Нет, пожалуй, не склеп. Квартира образованных людей с солидным достатком. Однако же вроде и склеп. Вот проследовала фигура с остекленелыми, поблескивающими в полутьме глазами, дошла до середины, лунатически обогнула кресло и уселась в нем, спокойно обернув колени пледом. Покойник? Нет, живой, но вроде бы и покойник. И декорации, и люди в этом спектакле представляют собой странное и, казалось бы, неосуществимое на сцене соединение условных, почти сказочных литературных фигур с вполне реальными лицами, с вполне реальными позывами. От чисто физиологических, выраженных понятием "благородная отрыжка", до витиевато умственных, а порой и лихорадочно деятельных, выражаемых вполне житейским: "Как бы так устроиться, чтобы пронесло!"
Но соединение это осуществляется. Выраженное в интерьере двуединое петербургское начало точно чувствуемой эпохи выражено и в людях. Вот быстрым шагом откуда-то из глубины вбежал на авансцену вполне респектабельный, но сильно взволнованный господин, бросил трость, взмахнул цилиндром и обратился к нам срывающимся голосом. Да, он только что прогуливался по Невскому, разумеется, он только что прогуливался по Невскому, и с ним только что, ну вот только что, случилось нечто такое, что повергло его в смятение чувств и мыслей. Нарушило любовно ухоженный строй внутренних идей и внешних представлений. И он спешил поделиться с нами, может быть, даже спросить нашего совета, как поступить... Во время его взволнованной речи литературный персонаж покоился в кресле. Он еще не ожил, он находился до поры до времени как бы в иной системе измерений. Позже мы убедились, что непрерывное обращение этих двух "сообщающихся сосудов", переход предельно литературного к сочно житейскому и обратно и есть характер действия. Но было бы ошибкой представить, что сцены фарсовые, балаганные, перемежаются со сценами реальными. Нет! Одно существует в другом, переход неуловим. Балаган оснащен вполне психологическим аргументом, реальные поступки — законченный балаган.
Вбежавший господин не был традиционным лицом "от автора". Он оказался одним из двух главных героев. Второй, которому через минуту надлежало "ожить" в Глумове, — как мы помним — покоился в кресле. Вбежавшего господина можно было бы назвать "рассказчиком", но и это не так. Скорее, время от времени он станет являться драматическим конферансье собственной и приятеля своего жизни, В литературной системе измерений Щедрина он — одна из олицетворенных идей российского либерала. Еще бунтующего, не могущего так сразу расстаться с надеждами и стилем общественного поведения эпохи реформа. В то время как Глумов — это идея либерала с такими надеждами и стилем уже расставшегося. Заметим здесь, что такое очевидное размежевание в романе Щедрина отсутствует — обе идеи у него перемешаны в том и другом персонаже. Пьеса эти изначально перемешанные качества в героях поляризует, что и создает необходимый драматический конфликт.
— Прогуливаюсь это я сегодня по Невскому и встречаю кого бы это вы думали? — Молчалина Алексея Степановича. Да, да, того самого. Подходит он ко мне этак и говорит: — Нужно, голубчик, погодить!
Эта удивительная фраза, которой вряд ли можно сыскать аналогию по бездонной ее вместимости, оказывается взрывной завязкой представления. Более того, она оказывается и его содержанием! О чем оно? О том, как "годят". Что же в нем происходит? Как что? Гожение! Щедрин наслаждается звонкостью этого слова — величайшей своей находкой. Спектакль овеществляет глагол "годить" в целый театр, выбирая у Щедрина все его производные и добавляя свое, иронически современное: "Гожу один!" — его бросит Глумов, осерчав на неповоротливость соображения приятеля. Разве что еще в "Ревизоре" завязка также внезапно выстрелена одной первой фразой: "Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие: к нам едет ревизор". Но в гоголевской комедии после этой фразы начинается стремительное действие. Здесь — стремительное бездействие.