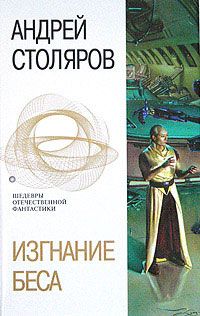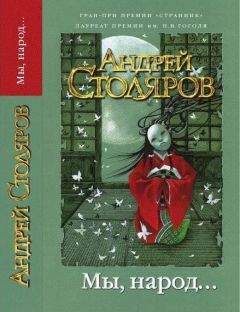Неизвестно - Столяров А. Мы, народ.
Между прочим, проявляется это не только в магии. Взять, скажем, Евграфа – никаких магических способностей у него и в помине нет. Совершенно обыкновенный, земной человек. Даже слишком земной – будто уходящий корнями в почвенную тяжелую глубь. Но посмотрите, как он работает: ни одного движения понапрасну, каждое точно такое, каким ему надлежит быть в данный момент. Топорик в его руках так и сверкает. Три легких взмаха – и готов требуемый затес. Все с точностью до микрона, можно не проверять. Дело под руководством Евграфа делается как бы само собой. Там, где обычная строительная бригада валандалась бы, наверное, целый день, мы, практически без спешки, без суеты, справляемся за три-четыре часа. Вон уже поднялась почти целая улица новых домов, и все – чистенькие, игрушечные, будто перешедшие в явь из сна. Так мы действительно успеем управиться до зимы. Или взять, скажем, Валдиса, который у нас и бухгалтер, и менеджер, и бизнесмен. Ведь он даже ноутбук с собой носит исключительно для того, чтобы производить впечатление на клиентов. А так, пожалуйста – каждую цифру на память, каждую строку в нашем бюджете, каждый пункт, каждую запятую. Подумает три секунды, моргнет бледными эстонскими веками – и вот тебе результат. Наверное, только я здесь слегка подкачал. Хиленькая спонтанная проскопия – ничего более у меня нет. Да и та не столько помогает, сколько мешает: предчувствовать я, конечно, предчувствую, но изменить что—либо не могу.
Или еще не успел вжиться в Китеж по-настоящему?
Или что-то не складывается во мне самом?
Эту мысль я не успеваю додумать. Собственно, это не мысль – настроение, которое держится у меня уже более двух недель. Зачем я здесь, для чего? Чтобы в третий или в четвертый раз увидеть, как рушится вокруг меня мир? Чтобы вновь, царапаясь и шипя от боли, выкарабкиваться из-под обломков? Чтобы опять начинать все с нуля?
Хватит!
Я больше так не могу!..
Иногда отчаяние охватывает меня с такой силой, что я хожу, как больной, утративший надежду на выздоровление: натыкаюсь на все углы, роняю или опрокидываю все, за что ни берусь. В глазах – туман, тело – будто из мягкого стеарина. Вета говорит, что в такие минуты я – будто призрак, попавший из мрака в свет.
Вот-вот беззвучно в нем растворюсь.
— У меня сердце куда-то проваливается, — говорит она. – Кажется, что протяну руку, коснусь, вместо тебя – горький дым…
К счастью, в данный момент я до крайностей не дохожу. Из-за ближнего леса выползает фургончик, щекастой кабиной подобный панцирному жуку, и, переваливаясь по колдобинам неухоженного проселка, именно как подслеповатый весенний жук, медленно, но упорно ползет в нашу сторону. Останавливается он возле правления: хлопает дверца, спрыгивает на землю майор в обычном своем десантном пятнистом комбинезоне. И по тому, как он пружинисто идет к нам, точно в бой, как он скалит издали зубы и дергает головой, чувствуется, что он в полном бешенстве. Причем бешенство он копил всю дорогу, молчал, наверное, щурился, чтобы не расплескать, и вот теперь намерен обрушить весь этот накал эмоций на нас.
Перед самой площадкой майор перепрыгивает с плахи на плаху. И вдруг за секунду до этого я вижу, что вот сейчас он зацепится носком ботинка за брус, шмякнется, расшибется в кровь – инстинктивно подскакиваю, делаю шаг вперед и подхватываю майора как раз в то мгновение, когда он готов треснуться головой о чурбан.
— Ёк-поперек!..
Глаза майора пылают от негодования. Я догадываюсь, о чем он думает, освобождаясь и проходя мимо меня. Майор, как и многие в нашем поселке, считает, что я не предугадываю близкое будущее, а создаю его. То есть я вовсе не предвижу того, что скоро произойдет, а, напротив, каким-то образом осуществляется именно то, что я, быть может, невольно воображаю.
Конечно, полная ерунда.
Однако попробуй кого-нибудь убеди, что это не так.
Новости, которые майор излагает, под стать его настроению. Саранча, как, впрочем, и ожидалось, обрушилась на поля бывшего совхоза “Заточный”. Теперь, правда, это уже крупное агропромышленное предприятие, где, по слухам, имеют доли прокурор города, мэр и, кажется, начальник милиции. Во всяком случае, город опасно бурлит. Отец Егусий с самого утра объявил, что это происки сатаны. Народ кучкуется в основном около церкви. На полдень назначен митинг, где будет выдвинуто ультимативное требование к районным властям: запретить тоталитарную секту, представляющую угрозу русским традиционным ценностям, спокойной жизни и здоровью людей. Бойцы Православного корпуса уже сколачивают помост. Появились листовки, видимо, отпечатанные заранее, где все мы изображены как стадо адских козлищ. Пару таких листовок майор нам привез. Вот полюбуйтесь!.. – пускает их по рукам. Если же власть не прислушается к законным требованиям народа, то отец Егусий объявит православный крестовый поход. Поднимутся русские люди. Сатанинской богопротивной ереси не место на Святой Руси!..
— Вот так, ёк-поперек!..
Впрочем, сам майор полагает, что гораздо хуже другое. Местная администрация подготовила пакет документов о незаконной обработке земли. Считается, что две трети сельскохозяйственных территорий, проданных нам или переданных в свое время в виде частных паев, оформлены с грубыми нарушениями. Это квалифицируется как самозахват, дело передается в суд. Прокурор обещал взять данный процесс под личный контроль.
Майор, кстати, к прокурору ходил.
— Ну, вы догадываетесь, конечно, что этот моржовый хрен мне сказал.
Да уж, можно представить себе эту картину. Со стороны майора, наверное, сплошные ёк-поперёк…
В городе вообще ужасная атмосфера. Я был там мельком, всего два раза, и оба раза возвращался, будто наевшись земли. Даже вид его производит удручающее впечатление: облупленные дома, гигантские лужи, хлюпающие по грязи мостки, всюду – мусор, ржавые остовы машин. Будто попадаешь в загробный мир. Как тут только люди живут? А чуть в сторону, что характерно – мощный чугунный забор, метра три вышиной, ворота с телекамерой, сад и за ним – трехэтажный вычурный особняк, с черепичной крышей, с башенками по углам. Здесь имеет жительство мэр. А неподалеку другой особняк – это жительствует прокурор. У него, говорят, даже личный бассейн. А еще метров сто – особняк начальника здешней милиции… В общем, вертикаль власти. Типичный средневековый феод. Вотчина, отданная на кормление местным князьям. Конечно, мы у них как бельмо в глазу. Достаточно посмотреть, сравнить – ежик и тот поймет, что к чему.
— А можно мне?.. – застенчиво говорит Анечка. И, смущаясь, краснея, как школьница, запинаясь, рассказывает, что вчера, когда она была на дальних полях, то увидела у самого леса громоздкую такую машину… Джип или что, или, может быть, лендровер какой… И трое мужчин рядом с ней рассматривали поселок в бинокль…
— Я почему решила – в бинокль? Там, знаете, так два раза сверкнули блики от солнца…
Анечка прячется за спину Георгия.
Тот слегка выпрямляется и грозно посматривает по сторонам.
— Да… готовятся хлопцы, — голосом, не предвещающим ничего хорошего, высказывается Евграф.
Майор кивает:
— Видимо, рекогносцировка. Любопытно – кто их сюда провел? – и вдруг звонко хлопает себя ладонью по лбу. – Ну, конечно, я же там видел этого… Смурого… Ёк-поперёк!..
Это имя падает на всех, будто тень. Игнат Смурый – человек, которого никому не хочется вспоминать. Единственный, вероятно, кто демонстративно покинул Китеж. А ведь поначалу казалось, что он будет здесь как рыба в воде. Хозяйственный, точно Евграф, мастер на все руки, находка для нас: дом поставить, колодец правильно вырыть, вскопать огород... Это несмотря на то, что с высшим образованием. Кандидат философских наук, диссертацию защитивший по русскому религиозному мировоззрению. Говорил, что лет пять назад специально купил избу в деревне: русский человек должен уметь – пахать, сеять, плотничать, печь хлеб. Это его изначальное, богоизбранное состояние: простые ценности, влекущие за собой праведную и безгрешную жизнь. И вот, представьте, начались осторожные неторопливые разговоры. Концепция, которую Игнат проповедовал, была проста, как шуруп. Поскольку русский человек есть по природе своей человек духовный – а никаких сомнений в сем факте, конечно, нет и не может быть, —то и спасать в Китеже следует прежде всего русских людей. А всякие там узбеки, таджики, татары могут и подождать. Такой этнический нарциссизм, очень характерный для патриотов: мы лучше других, просто потому что мы лучше других. Смурого особенно раздражало, что Ильхан вместе с Абуканом Керимом, есть у нас такой беженец из Туркмении, пришедший около года назад, молиться ходит в православную церковь, но при этом не крестится, как того следовало бы ожидать, а становится на колени и кланяется, складывая по-мусульмански ладони. И одновременно Гоша, фамилия которого, кстати, Петров, надевает круглую еврейскую шапочку, кипу, прикрывает глаза, раскачивается, что-то почти беззвучно поет. Смурый считал, что тем самым дискредитируется православие, и никакие аргументы отца Серафима насчет того, что бог неделим, что его трансцендентная сущность едина для всех по-настоящему верующих: для христиан, для евреев, для буддистов, для мусульман, что нельзя его шинковать на множество национальных фрагментов, что в конце концов и Христос говорил: нет ни еллина, ни иудея, на него не действовали. Человек слышит лишь то, что он хочет слышать, видит мир не глазами, а через оптику воспаленной души и вычитывает из священных текстов не бога, а самого себя. Смурый, вероятно, рассчитывал найти здесь какой-то другой град Китеж – в версии Смурого, а не в той, что постепенно сложилась у нас. Ему тут было нечем дышать. Сладкий воздух русского торжества превращался неизвестно во что. И последней искрой, зажегшей, по-видимому, праведный гнев, явился тот факт, что очередной дом на этой православной земле решено было построить инородцу Ильхану, азиату, чучмеку, язычнику, не верящему в Христа, а не истинно русскому человеку, Игнату Смурому, которому эта земля по праву принадлежит.