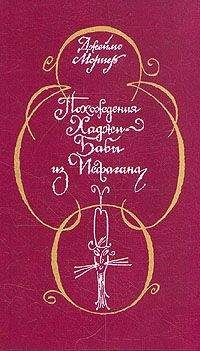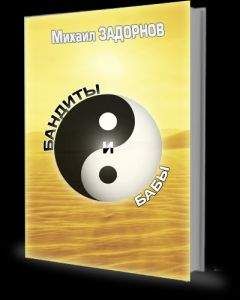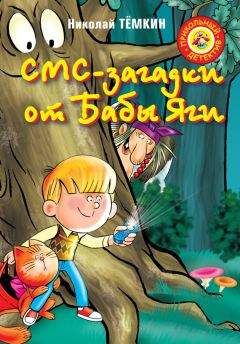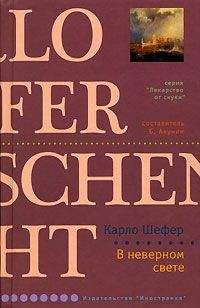Gurulev - Rosstan
– Ну что тебе стоит? Прими. Жалко тебе, да? – в голосе Степанки теперь уже униженная просьба.
Но комсомольский секретарь не ответил, промолчал, сделал вид, что за поплавком смотрит, да так смотрит, что и отвечать некогда.
Но Степанку в комсомол все же приняли.
Федька, узнав о разговоре с Северьяном, Степанку выругал. «Нечего трепаться о том, что четырнадцать лет тебе еще будет. Говори – шестнадцатый год. Смотри-ка, беда какая – на год соврал».
– Я тебе это дело проверну, – пообещал Федька.
Через две недели приехал инструктор УКОМа Жилин. И в этот же день Степанке велели прийти на собрание.
– Ну, паря, держись, – говорил подобревший Северька. – Отвечай как по писаному.
– А этот, из УКОМа, из-за меня приехал?
– Нет, так уж совпало. Да ты не трусь.
Степанка согласно кивнул, но в душе поопасился.
Собрание состоялось вечером в школе. К поселку приближалась гроза, раньше времени подернулись синью окна, и пришлось зажечь пузатую керосиновую лампу. Лампа была без стекла, сильно чадила: метался и вздрагивал желтый, остренький кверху огонек.
С темных стен сурово и настороженно смотрели бородатые люди – писатели.
Степанка плохо понимал, о чем говорили на собрании. Он даже плохо слышал, о чем говорили. И лишь когда назвали его фамилию, он внутренне вздрогнул и вскочил на ноги. В классе сидели все свои, смотрели подбадривающе, и только Жилин был чужой, начальственный.
В комсомол Степанке хочется не меньше, чем стать взрослым. Да хотя это для него почти одно и то же. В комсомол вступил – значит, уже большой, вырос. Опять же комсомольцы собрания свои проводят, важные собрания, никого чужих туда не пускают. Спектакли ставят, друг за дружку горой стоят. Оружье некоторые, что постарше, имеют, бандитов ловят. А еще – не молятся, не крестятся. И говорят: «Будем биться за новую жизнь».
Правда, кой-кто – есть такие – плохо о комсомольцах сказывают, да разве комсомольцы их боятся? В ячейке также добрые казаки, как братка Федя, Северька.
В общем, надо Степанке в комсомол, нельзя ему без комсомола.
– Пусть Стрельников расскажет биографию, – сказал Жилин.
Степанка мучительно думал, о чем же это нужно говорить, вглядывался в темные стены, в портреты строгих писателей и молчал.
На помощь пришел Федька. Он хрипловато хохотнул, прикурил от чадящей лампы, дунул дымным облачком на Степанку.
– Да какая у него биография. Родился, крестился, скот пас. Вот и все.
Укомовец строго взглянул на рыжего хамоватого парня, но тот не отвел глаз, не почувствовал себя виноватым.
Подал голос и Северька:
– Вообще-то, мы Стрельникова хорошо знаем. На наших глазах растет. Через год-другой настоящим комсомольцем будет.
«Опять этот Северька не хочет принимать, – взвыл в душе Степанка. – Через год-другой…» Но Северька закончил неожиданно:
– Так что принять его в комсомол нужно.
Степанка осмелел. На вопросы стал отвечать бойко.
Да и вопросы-то были пустяковые.
Но Жилин был недоволен. Он, явно кому-то подражая, постукивал белеющими костяшками пальцев по столу.
– А родственники у тебя за границу не убежали? – инструктор подался вперед.
Этот вопрос тоже пустяковый. У кого таких родственников нет?
– Старший брат за реку уехал. Потом дядя, с материнской стороны, убежал. Только он не здесь жил.
– Мне ясно, – Жилин поднялся над столом. – Нельзя с такими родственниками быть в комсомоле. Политически близоруко, товарищи.
Степанке стало жарко. Но на помощь пришел Федька. Брызгая слюной, он закричал:
– Я его родственник! Может, и меня ты в контру запишешь? У меня ведь тоже брат у белых служит. И я, значит, не красный, а белый, растудыт твою…
– Ты тише давай, – хотел успокоить Северька друга.
– Иди к черту! – Федька тряхнул рыжей головой. – А у тебя, дорогой товарищ инструктор, нет родственников за границей?
– Нет, – строго ответил Жилин. – У меня вообще родственников нет. А отца белые казаки убили.
– А мы красные казаки, – сказал Федька, остывая. – Так что примем Степанку в комсомол.
Прокатилось по степи ярким колесом жаркое лето. Утрами землю кутает промозглый туман, низко над сопками ползут серые, усталые тучи. Курлычут запоздалые косяки журавлей; сонные тарбаганы редко появляются на желтых бутанах.
– Низко летят журавли. Мало нынче снегу будет, – говорили старики, провожая взглядами зыбкие треугольники.
– Опять зима лютая…
– Лонись тяжелая зима была. Морозы чуть не до Пасхи.
Тоскливо осенью человеку, смутно у него на душе.
Федоровна работала на поденщине всю осень. То у одного крепкого хозяина, то у другого. Последние дни жала серпом ярицу у Филоса, прижимистого и хитроватого мужичонки. Филос нанимал в работники только баб: плату им можно положить меньшую. Тем более что мужиков революция шибко испортила: новой жизни хотят, на хозяина волком смотрят.
Степанка вступление в комсомол скрывал: не было случая сказать матери. Мать и так все время пасмурная, еще неизвестно, как она на все это посмотрит. Но сказать все же пришлось, хоть и время неудачное подпало.
Вечером мать вернулась поздно, в избах уже зажгли лампы. Пришла тяжело, ужинать не стала. Заварила из самовара богородской травы, выпила полкружки. Завернулась в стеганое лоскутное одеяло, легла на гобчик, прижалась спиной к печке.
– Простыла, наверно. Ты, Степа, поставь чугунок, свари картошки, потом, может, есть захочу.
Степанка с испугом смотрел на непривычно осунувшееся лицо матери, слушал ее вздохи. Скользкий тугой комочек подбирался к горлу парнишки.
Мать подняла голову.
– Отлежусь. Умирать не с руки. Мал ты еще. Сирот и так в поселке много. Мне уж вроде полегчало. Спать иди, бог с тобой. Ты хоть ел?
Степанка кивнул головой.
– Молоко пил.
Степанка бросил в угол тюфячок, укрылся козьей дохой. Тепло под дохой. Мать велела молиться святым угодникам: легче ей тогда будет, болезнь отойдет. Нельзя комсомольцу молиться. А мать жалко.
Мать, и верно, отлежалась. Но на работу не пошла.
– Встань, сынок, – услышал утром Степанка ее скрипучий от болезни голос. – Позови Костишну. Пусть коров подоит.
Костишна скоро подоила коров, затопила печку. Веселее стало в избе. Но ушла быстро, пообещав наведаться.
Степанка во двор выбежал. Там у него под навесом щенок привязан. Высокого, голенастого щенка от самой быстрой в поселке собаки дал ему Филя Зарубин. Степанка надеется, что Кайлак вырастет таким же резвым, зайца будет догонять.
Щенок слюнявил Степанкины руки, выгибал спину, радостно взвизгивал. Степанка, с удовольствием отбиваясь от щенка, налил в глиняную чашку свежей воды, достал из кармана кусок хлеба.
Федька подошел, как всегда, незаметно.
– Крестная, говорят, болеет?
– Болеет.
Федька тряхнул чубом, скрылся за дверью. Но через минуту дверь открылась, показалась рыжая голова.
– Эй, комсомол, иди-ка сюда.
У Степанки екнуло сердце. Сейчас мать все узнает. Больная мать, сердитая.
Федоровна поднялась на локте, глаза – злые. Обтянутые сухой кожей скулы побелели.
– Я болею, а ты в комсомол вступаешь? Смерти моей хочешь?
Степанка молчал.
– Гневим Всевышнего, Он и наказывает нас, – мать поджала морщинистые губы. Трижды перекрестилась на темные иконы.
Федька, не обращая внимания на слова крестной матери, скомандовал:
– Беги, братка, к нам. За печкой у меня сундучишко стоит, открой его. Там на дне мешочек, а в нем тряпками замотана бутылка спирта. Понял? Тащи ее сюда. Одна нога здесь – другая там.
Степанке повторять не надо. Задержишься – порки не миновать. А мать отходчива.
Вместе со Степанкой вернулась Костишна. Парнишка совсем взбодрился: не будут его ругать, сейчас, по крайней мере.
Федьке жалко крестную. Но говорит он нарочно громко, грубовато.
– Сейчас тряпку в спирту смочим, на грудь положишь, прогреет. И рюмочку выпьешь. Совсем хорошо станет. Я ведь лечу лучше фершала.
Федоровне от людской ласки тепло на душе.
– Степанка, лови курицу. Самую жирную.
– Зачем это? – мать снова приподнимается на локте. – Мало у меня куриц-то.
– Э-э! Не они нас, а мы их наживаем. Похлебку сварим.
Женщины знают: с Федькой спорить бесполезно. Что скажет, то и сделает.
На шестке плясал огонь. Метался по избе веселый рыжий Федька. Бурлил чугунок, плескался водой на горячие кирпичи.
– Надо бы тебе, Федя, девкой родиться, – слабо улыбнулась крестная, глядя, как ловко тот ощипывает курицу.
– И то верно, – поддержала Костишна. – А то ни у тебя, ни у меня девок нет. Все самой да самой.
– Ты, крестная, не ругай моего братана за комсомол. Ничего плохого в этом нет. Я ведь, сама знаешь, раньше его еще записался.
– Ты уже мужик. Хотя тоже непутевый. От дому отбиваешься. И этот туда же. Одна я теперь осталась, как в поле тычинка, – Федоровне жалко себя. Вытирает слезы углом шалюшки. – Видно, по миру с сумой скоро пойду.