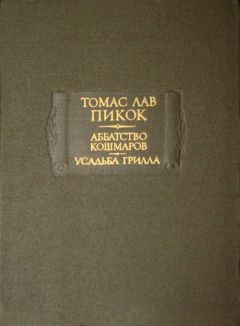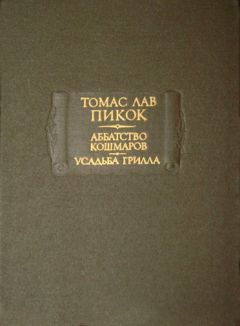Томас Пикок - Усадьба Грилла
Мистер Грилл меж тем затеял в соседней, меньшей гостиной другую кадриль - за карточным столом, и участники ее были он сам, преподобный отец Опимиан, мисс Тополь и мистер Мак-Мусс.
Мистер Грилл:
- Из всех карточных игр я только эту одну и признаю. Бывало, она тешила по вечерам всю нашу Англию. Нынче же, если кто и сядет за карты, так непременно отдадут предпочтенье висту, который в молодости моей почитали за игру скучную, сухую и умственную, ибо играют в него в унылой сосредоточенности, лишь изредка нарушая ее мрачным либо назидательным сужденьем. Кадриль не требует эдакой важности, тут можно и посмеяться и поболтать, но в ней нахожу я достаточно интереса.
Мисс Тополь:
- Я очень люблю кадриль. Мне по старости лет еще памятно время, когда ни один вечер в сельской глуши без нее не обходился. Однако chaque age a ses plaisirs. Son esprit et ses moeurs {каждому возрасту свои радости, свой дух, свои причуды (фр.). Буало. (Примеч. автора).}. В старости то и плохо, что трудно мириться с переменой обычаев. Старичкам, которые пережидают со скукой, пока молодежь поет и танцует, позволительно погрустить о карточных играх, которые в их юные дни так тешили старое поколение; да и не только старое.
Преподобный отец Опимиан:
- К картам нынче редко прибегают вечерами по многим причинам. После позднего обеда и вечера уж не остается. Прежде, бывало, в карты играли меж чая и ужина. А нынче где ж встретишь такое? Разве в каком-нибудь богом забытом месте ужин и кадриль еще в чести, как во времена королевы Анны. А полвека тому ничего не бывало проще, как сойтись друг у дружки в домах по очереди сперва для чая, потом для кадрили, а потом и для ужина. О распространенности сей игры можно судить по балладе Гея {185}, живописующей, как все классы общества равно ею увлечены {*}. Ныне же легкость передвижения сводит на нет приятности соседства. Ныне никто уж не прикреплен к своему месту и не ищет развлечений в предопределенном и узеньком кругу. Все почти вечно ездят куда-то. Даже и так называемые домоседы реже сидят по домам, нежели колесят по свету. Ну, а если где и играют в карты, избирают вист оттого, что он более соответствен нынешней важности; он умственней; так же, впрочем, как другой вид кадрили, в которой люди важно ходят парочками, будто аршин проглотили, заместил прежние милые танцы. Слова “добрый старый танец” способны вызвать в уме мысль о кадрили ровно в той же мере, как слова о доброй старой Англии могут вызвать в уме хоть какой-то образ, не заемный из старинных баллад или старой английской драмы.
{* Например:
Когда больной совсем уж слег,
Пришел провизор старый
И доктору кричит: “Он плох!”
Non debes quadrillare
[Ты не должен отплясывать кадриль (лат.)].
Скончался без пилюль больной -
Кадриль врача тому виной.
Испанцы, галлы вновь шумят,
Но пуще - московиты.
Британцы их взнуздать хотят,
Немало пуль отлито.
Вот-вот польется кровь рекой -
Кадриль вояк тому виной.
(Примеч. автора).}
Мистер Грилл:
- Ну вот, ваше преподобие, я дам на рождество бал, где танцевальное искусство будет представлено во всех видах, в том числе и старинными сельскими танцами.
Преподобный отец Опимиан:
- Вот это славно. С удовольствием погляжу на молодежь танцующую, как молодежи и подобает.
Мисс Тополь:
- Есть разновидность этой игры под названием тредриль - ломбер у Попа в “Похищении локона” {186}, - приятная игра для троих. Поп имел возможность много раз ее наблюдать и, однако же, описал ее неточно; не знаю, замечал ли это кто кроме меня.
Преподобный отец Опимиан:
- Нет, я никогда не замечал. Хотелось бы послушать, в чем там дело.
Мисс Тополь:
- В кадрили играют сорок карт; в тредрили обычно тридцать; иногда, как у Попа в ломбере, - двадцать семь. Когда карт сорок - число козырей одиннадцать, если они черной масти, и двенадцать, если красной; когда карт тридцать, то козырей девять, какой бы масти они ни были; когда карт двадцать семь, козырей не бывает больше девяти какой-то одной масти и больше восьми в случае других мастей. В ломбере же у Попа козыри - пики и число их одиннадцать, то есть столько, сколько бывает, когда в игре все сорок карт. Если внимательно следить за его описанием, это сразу заметишь.
Мистер Мак-Мусс:
- Что ж, остается только сказать, как сказал великий философ, впрочем по другому поводу: “Описания стремятся отвлечь внимание читателя поэзии” {Кажется, это у Дугалда Стюарта в “Философии разума” {187}, но я цитирую по памяти (Примеч. автора).}.
Мисс Тополь:
- И ведь досадно. Верность природе так важна в поэзии. Немногие заметят неточность. Но кто заметит, сразу ощутит разочарованье. У Шекспира каждый цветок распускается точно тогда, когда ему положено. Водсворт, Колридж и Саути верны природе и в этом, и во многом другом, даже когда отдаются на волю фантазии самой необузданной.
Преподобный отец Опимиан:
- И все же у одного великого поэта нашего встречаем мы сочетание цветов, которые не могут цвесть в одно время:
И примулу сорви, не позабудь
Левкои и жасмин вложи в букет,
Гвоздику и анютины же глазки,
Фиалку - пусть сверкают краски,
И жимолость, и мускус, первоцвет -
Он голову задумчиво повесил.
Любой цветок в печальном одеянье:
И бархатник - ведь он с утра невесел,
Нарциссы, полные слезами расставанья -
Украсить Люсидаса погребальный путь {188}.
Так в одно и то же время заставляет он расти и ягоды, и мирт, и плющ.
Мисс Тополь:
- Прелестно, хоть и не соответствует английским временам года. Но, быть может, Мильтон оправдан тем, что мнил себя в Аркадии. Обычно он весьма точен, так что сама точность эта уже прелестна. Например, как он обращается к соловью:
Тебя услышав меж ветвей,
Я замирал, о соловей!
Молчишь - не мил мне птичий гам,
Брожу по скошенным лугам {189}.
Песни соловья и кончаются тогда примерно, когда уже скошена трава.
Преподобный отец Опимиан:
- Старая греческая поэзия всегда верна природе, ее можно строжайше поверять. Должен сказать, для меня это необходимое условие поэзии истинной.
Мистер Мак-Мусс:
- Нет поэта, более верного природе, нежели Бернс, и менее ей верного, нежели Мур. Фантазия всегда ему изменяет. Вот ведь, например, очень всем нравятся строки и в самом деле милые на первый взгляд:
Роса ночная оросит дубравы,
Посеребривши над его могилой травы,
Так и слеза, что падает в тиши,
О нем напомнит в тайниках души {190}.
А ведь поверки не выдерживают. Яркость зелени зависит от росы, но память от слезы не зависит. Слеза зависит от памяти.
Преподобный отец Опимиан:
- По мне есть неточности похлестче изменившей фантазии. Например, я с неизменным неудовольствием слушаю одну песнь. Юноша поднимается в гору, все выше и выше, и повторяет Excelsior {выше (лат.).} {191}, но само по себе слово означает лишь большую степень высоты какого-либо предмета в сравнении с другими, а не степень большей вознесенности предмета в пространстве. Стебель фасоли Джека {192} делался excelsior, по мере того как вырастал; сам же Джек ни на йоту не стал более celsus {высоким, возвышенным (лат.).}, оказавшись наверху.
Мистер Мак-Мусс:
- Боюсь, ваше преподобие, если вы станете искать у знаменитых поэтов глубоких познаний, вам часто придется огорчаться.
Преподобный отец Опимиан:
- Я вовсе не ищу глубоких познаний. Я хочу только, чтобы поэт понимал, о чем он пишет. Берне не был ученым, но он всегда владел избранным предметом. Вся ученость мира не породила бы Тэма О Шентера {193}, но в этой вещи нет ни одного ложного образа, ни одного не к месту сказанного слова.
А вот как по-вашему, что означают строки:
Увидел черноглазую царицу
В цветах, у ног багряный плат,
Смела, прекрасна, смуглолица,
И брови золотом горят {194}.
Мистер Мак-Мусс:
- Я был бы склонен принять это за описание африканской царицы.
Преподобный отец Опимиан:
- И однако ж, так один известнейший наш поэт описывает Клеопатру; а один известнейший художник {195} наш снабдил его описание портретом безобразной, осклабившейся египтянки. Мур положил начало этому заблужденью, доказывая красоту египтянок тем, что они якобы “соплеменницы Клеопатры” {Де По, великий умалитель всего египетского, на основании одной поездки в Элиан решил приписать всем соплеменницам Клеопатры окончательное и неисправимое Уродство. - “Эпикуреец” Мура {196}. Сноска пятая. (Примеч. автора).}. И вот уже мы видим как бы обратное доказательство тому, что Клеопатра была страшилищем, оттого что она была соплеменницей египтянок. Но Клеопатра гречанка, дочь Птолемея Авлета и одной черноморской дамы. Птолемеи были греки, и достаточно взглянуть на родословные их, на их монеты и медали, чтобы убедиться, как блюли они чистоту греческой крови, как опасались смешения с африканцами. Только подумать, что это описание и эта картинка относятся к той, кого Дион {197} (и весь древний мир в согласии с ним) называет “прекраснейшей средь жен, отрадой взоров, наслажденьем слуха” {Дион. XLII, 34. (Примеч. автора).}. Ибо она была недюжинной образованности, говорила на многих языках легко и красиво. Ум ее был столь же необычаен, как ее красота. А в этом жутком портрете нет и намека на осмысленность.