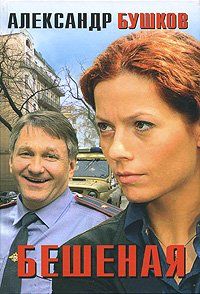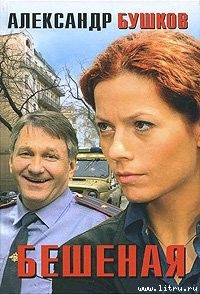Джек Керуак - Видения Коди
Сунувшись в карман этим вот жестом, пальто за ним разлетелось, глядите – Коди спешит в сердце Денвера с тем же блеском в глазу, какой видишь на крыльях блестящих новеньких автомобилей, только что выметенных пылью из того старого домосвет-отражающего гаража, но ныне подмигни-ка дикому неону Главной улицы; глядите, вот он, иногда в такой большой спешке, что, казалось, светофор щелкает зеленым только ради него и какого бы ни было кореша рука об руку, головы в беседе толкают друг дружку, с кем он промахивает мимо, мигнув за-угол в исчезанье каблуков, чтоб им не пришлось вообще останавливаться, а рассекать прям к самой бильярдной, уровни разговора соответствуют заводной радости, трам, бам, объемистые болтуманы хлещут взад, как пузыри диалогов, растворяющиеся в зимнем воздухе, зрелище (опять), какое маленький Коди частенько выкапывал из одинокого Жаворонкового зимнего окна своего бедного бродяготца, скрипящего в старых креслах за наблюдательнопостовым пыльным стеклом; может, когда несется он, ожидающая автобус девушка, (снова), ноги враскоряку, наблюдая за ним вдруг с этим змейским сексуальным любвеподобным взглядом, и пацан говорит себе самому: «Так вот чем они занимались все это время, большие парни и девушки (черт, черт, ты глянь, как этот „кадиллак“ со светофора рвет!)», девушка, стоящая под конфетно-полосатыми навесами пятерочек-десяточек позднего субботнего дня в октябре, в темных очках, обыкновенная высокаблучная деваха из центра Денвера; глядите, Коди Помрей старается поспешать в сердцевину великого денверского вечера, который ему отыщет очевидное средостенье в бильярдной, где иногда час так ревущ, что с открытой заднею дверью Тремонтского салона виден целый квартал бильярдных сквозь два заведенья, как смотреть в бесконечное зеркало, сплошь киепалки, дым, зелень; мастырится пронзить сердце ночи или быть пронзенным, но вечно промахивается, потому что отнюдь не в бильярдной или в центре города подале, где краснокирпичные стены уводят дальше, сияя от черностоечных неонов в невыразимые тайные блескучие центры, где все, должно быть, происходит или, на худой конец, предлагает видоизмененное указанье на то, куда за ним идти, показывает вдоль по какому длинному темному проезду и бульвару с его безымянным позабытым углом (Бар «Лис и Охота»!), где неоновый огонь, запрятанный за дальнейшими зданьями, шлет ауру приглашенья и призывает мужчин прийти и совершить мотыльковый подлет (как героев Драйзера, кого он швырял, как жуков, о летние сетчатые двери, о грустные изощренности и возбужденья в огромной темноте Америки, умалюм, умалюм), а вместо этого вся ночь и всё, что она когда-либо кому-нибудь давала, кроме смерти и абсолютной утраты, должно быть найдено в двенадцати-тринадцати футах у Коди над головой, пока несется он, весь сплошь глаза, в бильярдную, либо с Уотсоном, большим Вергилием Бильярдной Ночи, с кем он делит ту же мантию утонченного рассеянного воодушевленья, о котором все прочие тупят, акула и мальчик его, звезды гостиных интервью в полночь, вроде Майлза и Ли Коница, что заруливают вместе в бар, либо, скажем, с Айком и Хэрри Труменом, либо со мной и мальчиком моим в профсоюзный зал в трех тысячах миль от дома, либо один, жаждая; в двенадцати-тринадцати футах вверх по краснокирпичной стене и едва за угол в междомовой проулок, столь трагический и спрятанный от города, прям там, виденье, какое получишь, какое там есть.
Чтобы подчеркнуть, что это субботний вечер, некоторые люди приносят коробки шоколада, которые покупают в бедных битых аптечных лавках, где подкладные судна и бандажи в витринах, думая, что ленточка, и залитая лунным светом индейская дева с бусами, только на сей раз (потому что имеют дело с дамскими вкусами и нёбами, не с грубыми промежностями лягашей) никакой груди, оттого-то это субботний вечер поистине; субботний вечер, от которого всё совершенно иначе, покуда идешь мимо аптечной лавки, а тебе нечего делать, и, может, угрюмое отсутствие интереса, видишь рекламку шоколадного батончика в витрине – те же самые коробки, что, бывало, несли на себе еще более вычурных индейцев и женщин в еще более длинных бусах, обрамленных еще более серебряным лунным светом – даже имена по-субботне-вечернему печальны: «Пейдж и Шо», «Шраффт» итакдалее, и все это связано со смыслом субботнего вечера так же, как старые сифилитические фильмы Двадцатых, где показана парочка, вся расфуфыренная в вечерних нарядах, спешит к окраине в безумном сверканье огней на вечеринку (где они подцепят триппер или сифак и позже, после того, как завершится воскресная ночь, заключат пакт о самоубийстве в обычной будничной одежде —) (то была действительная кинокартина, которую я видел, и не Тридцатых фильм, потому что я видел ее в Тридцатых, и даже тогда, в мои двенадцать лет, мне было непонятно, до чего стар этот фильм). Конфеты в причудливых коробках, шоколадные, единственное, что аптечная лавка, не торгующая больше ничем съестным, согласна продавать, серьезные аптеки без кранов с газировкой продают шоколадные батончики; фонтаны газировки с мороженым, причудливых разновидностей, что свое собственное мороженое делают и батончики, и у них кафельные полы и банки с твердыми леденцами, все безупречно новехонькие и изощренные, как, можно себе представить, выглядела старая Вена, а еще они продают конфеты в коробках, у них их большие витрины, всех марок, и коробки с их золотою укладкой и лентами, и чудны́ми буквами ловят меня за сердце, когда я говорю с этим невыразимым осознаньем, что сейчас субботний вечер – не только потому, что beau[22] может приложить руку к козырьку у унылой двери и вручить такую коробку, или потому что в окне аптечной лавки, иначе состоящем из подкладных суден и резиновых изделий, лавандовая коробка конфет обитает человечно, сладко, бог-знает-как-то, умильно, уныло, и единственный, кто замечает субботним вечером аптечные лавки, по необходимости один и одинок, но поскольку в темноте и сверканье субботнего вечера (особого рода, от которого железные пожарные лестницы по бокам театров еще более смурны) коробки шоколадных батончиков означают сидеть дома, несмотря на празднества повсюду так называемые, означают безмолвную тягу протянуть руку через пропасть и в нежном себе-потворстве, словно у дурцефала на другом краю города за задернутыми шторами, что шлепает густые шоколадки себе в рот одну за другой, слушая, я бы сказал, не Хит-Парад, а танц-парад субботнего вечера, отдаленные оркестр-вещанья, что есть у большинства сетей (покуда хозяйка дома гладит свежую благоуханную стирку), ты в халате и тапочках, предпочтительно китайского стиля, со смешилками в руках. Но субботний вечер лучше всего отыскивается в краснокирпичной стене за неонами, теперь она бесконечно унылей обычного, как железные пожарные лестницы на слепых сторонах стен великих жирных залов, что присели на корточки, как лягушки в деловитой недвижимости, по субботним вечерам они гораздо унылей, отбрасывают более безнадежные тени. Субботний вечер – это когда то, что неотступно преследует нас превыше речи и нагромождений наших мыслей, облекается вдруг прискорбным видом, что вопиет быть усмотренным и замеченным со всех сторон, и мы не можем ничего с этим поделать, да и Коди не мог; и по сей день он, старше и столько лет спустя, ходит ныне одержимый призраками по улицам субботней ночи в американском городе, а глаза у него вырваны, как у Эдипа, который видит все и не видит ничего от мук того, что жил и жил и жил и по-прежнему не знает, как исторгнуть из жалкого мира и публики вокруг хоть какое-нибудь слово похвалы чему-то, что вызывает у него благодарность и заставляет плакать, но остается незримым, отчужденным, правонарушительным, самодовольным, не недобрым, а просто тупым, сами улицы, сами вещи жизни и американской жизни, и лица, и надежды, и потуги самих людей, кто с ним в скрежетзубовной карте земли произносят гласные и согласные вокруг ничто, они кусают воздух, сказать нечего, потому что не можешь сказать то, что знаешь, это пустота, Демосфеновой гальке пришлось бы упасть слишком уж далеко вниз, чтобы стукнуться о такое вот дно. Иногда, совсем далеко от города, скажем, во многих милях от Восточной Колфэкс, Коди, дожидаясь автобуса или попутки, видал дальнее ржавое свеченье неонов в центре города, и ему до того не терпелось тут же туда добраться, что, задрав подбородок к цели своей, он быстро шагал в такой пылкой озабоченности туда-дойти (в карманах пальто кулаки его прижаты к бедрам для скорости), он был бы как человек верхом на колесе, плоская деревянная кукла, которую держишь в руке, а ногам сообщаешь размытое крученье, потому что во многих милях от центра города это как внезапная трагедия, какую я ощутил однажды на День благодаренья в Лоуэлле, когда родня решила пойти в кино, и хоть это было самое крупное событие, какого я и желать бы мог, я сказал, что придержусь своего обычного по четвергам вечернего занятия по гимнастической разминке в АМХ, однако стоило мне подойти к ступеням А, не успел еще старый «плимут» моего отца исчезнуть в подмиге красного огонька, столь же возбуждающего, как красные неоны против зданий на Кирни-сквер и ресторана Цзинь Ли пятью кварталами дальше и за углом которого чумово, знал я, блещет театр, я осознал, что теперь Благодаренье и в спортзале никаких занятий нет (и потому я побежал сквозь напрямки железнодорожных канальных мостов среди картонных коробок и гор фабричноветоши, синей от красителя, прямиком к красным стенам киноулицы, как будто, схватившись за горло, лишь там мог утишить ужас, что вдруг приподнял меня в воздух в грезливом осознанье того, что я умру), Коди, чувствуя себя так же при меньших порывах, скорее всего и, может, тратя свой впустую, проматывал последний дайм на дикую развратную поездку на трамвае, что повергала его вниз, и он бежал к бильярдной, а там никого не было, закрыта на ремонт или Благодаренье, и вечно, пока стоял он на тротуаре под краснокирпичной неонной стеной, думая, отдумывая, из-за угла выворачивал легавый крейсер с сияющей антенной и рыком радио, и он отворачивался, он шел дальше, он спешил вот к этому, и всегда ни ради чего больше вот этого.