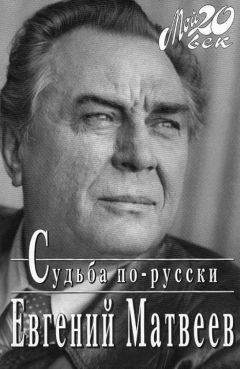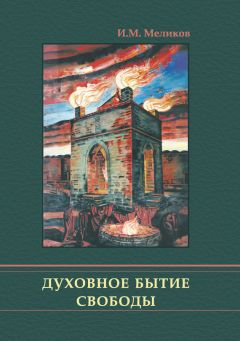И. Халатников - Дау, Кентавр и другие
В тот год АБ приехал в Бакуриани со своим давнишним другом Борисом Гейликманом. Жили они в одной комнате, а в соседней жил я с Алешей Абрикосовым. «Дом физика» находился на горе. Возвращаясь из поселка Бакуриани, мы иногда заходили в местный универсальный магазин, который большим изобилием не отличался. Там было лишь 3 предмета, привлекавшие внимание: большие портреты товарища Сталина маслом в золоченых рамах, длинные кухонные ножи и большие трикотажные женские панталоны. При виде всего этого созрел план розыгрыша. Я обсудил это с Алешей Абрикосовым, и мы приобрели самый длинный кухонный нож и лиловые панталоны. К этому набору необходимо было еще прибавить записку на грузинском языке, которую мы попросили написать молоденькую грузинскую дипломницу А. Абрикосова Риту Кемоклидзе. Текст записки состоял из одной фразы: «Ты ответишь за поруганную честь». Сложность состояла в том, что Рита не знала, как по-грузински «поруганная честь». Здесь- то уже начиналась комичность ситуации. Рита бегала по «Дому физика» и спрашивала у маститых грузинских ученых, как на грузинском языке будет «поруганная честь». Когда наконец все было готово, оба предмета с запиской были незаметно положены на дно сумки АБ, благо комнаты никогда не запирались.
На следующий день мы все возвращались в Москву. Как обычно, разбирая сумку АБ, его жена Татьяна Львовна с удивлением обнаружила «компрометирующие» АБ предметы и записку. Смущенный Кадя ничего внятного сказать не мог. Записка, которая могла бы что-то объяснить, была на грузинском языке. Решили обратиться к близким друзьям — Радам и Михаилу Светлову. Радам Светлова была грузинской княжной и язык знала. Поскольку по телефону прочесть не могли, поехали к Светловым. А там, как назло, оказался близкий друг Светловых и Мигдала — известный физик Бруно Понтекорво, также большой любитель шуток. Можно представить, какой стоял хохот и сколько остроумных шуток было произнесено после того, как Радам перевела злополучную записку. Розыгрыш удался, АБ оценил шутку.
Часто приходится слышать разговоры о богатстве академиков в годы советской власти. У академика Мигдала не было даже дачи. Вспоминаю, что с начала перестройки у меня, как директора Института, появилась некоторая свобода в расходовании средств. Воспользовавшись этим, я первым делом повысил зарплату всем сотрудникам Института в полтора раза. Получив первый раз дополнительные 250 рублей, Кадя сказал мне: «Исаак, я впервые почувствовал себя свободным человеком, у меня впервые появились карманные деньги».
Мне приятно вспоминать, что последние несколько лет своей жизни АБ чувствовал себя «свободным человеком» и я, хоть и в небольшой степени, был к этому причастен.
«Ландау — наш ученый или...?»
Мы все преподавали либо в университете, либо в Московском физико-техническом институте, и, таким образом, школа Ландау была построена на хорошо организованной системе отбора талантливых молодых людей и привлечении их в аспирантуру. Поэтому сразу же после организации института мы решили создать кафедру Московского физико-технического института с тем, чтобы наш институт был для него базовым и чтобы мы могли там отбирать студентов.
МФТИ был организован специальным декретом, подписанным Сталиным. Документ был секретный. Предполагалось, что там будут готовить специалистов, связанных с учреждениями оборонного значения. В то время, когда мы создавали свою кафедру, году в 65-м, этот шаг требовал решения Военно-промышленной комиссии Совета Министров.
У меня не было непосредственных выходов ни на Военно-промышленную комиссию Совета Министров, ни на Совет Министров. К кому обращаться? Оставалось аукать на Красной площади. Помог отец нашего студента Владимир Константинович Бялко, который вывел меня на генерала Назарова. Александр Александрович Назаров работал в Управлении делами Совета Министров у Косыгина и готовил всевозможные документы. Мы договорились, так сказать, о сценарии — как будем действовать. Естественно, за подписью Мстислава Всеволодовича Келдыша, президента Академии, в Совет Министров был направлен документ о создании кафедры в Московском физико-техническом институте. Дальше этот документ стал гулять по канцеляриям различных министерств. Периодически генерал Назаров мне сообщал, скажем, следующее: «Сейчас документ находится в Госплане; вам надо сходить к заместителю председателя Госплана такому-то, он вас примет». Я ходил и, как правило, всюду встречал доброжелательный прием. Самым «узким местом» оказалось Министерство финансов. Я получил информацию от Назарова, что Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение Академии наук о создании нашей кафедры. Это было серьезное препятствие, но, как считал генерал Назаров, он найдет способ с ним бороться. А пока, по его совету, я попросился на прием к заместителю министра финансов Марии Львовне Рябовой, поскольку она курировала науку и культуру.
Это была невысокого роста хрупкая женщина. Когда я к ней пришел, она вызвала своего помощника. Помощник, огромный мужчина, пришел с отрицательным заключением. Основной мотив был: «Как же так, возникнет неконтролируемое совместительство». Преподавание предполагалось не в учебном, а в базовом институте. А как же нас проконтролировать, когда мы обучаем, а когда не обучаем?.. Выслушав этого самого чиновника, Рябова дала указание: «Перепишите и дайте положительное заключение».
Я до этого рта не открывал. Собираясь на прием, я, естественно, несколько нервничал и думал, как себя повести. Допустим, она скажет, что у нее уже отрицательное заключение — и все. На этой ноте закончить разговор будет как-то не очень удобно. Поэтому я решил так: возьму с собой книжку о Ландау, написанную Майей Бессараб, и при расставании с Рябовой, чтобы смягчить финал, подарю и скажу: «Вот книжка о Ландау, а мы — его ученики и создали институт, который будет продолжать его традиции». Неожиданно все решилось положительным образом, но я подумал, что и в таком случае преподнести книгу вполне уместно. Я сказал: «Вот книга о нашем учителе Ландау». И здесь последовала довольно неожиданная реакция. Рябова спросила меня: «Это наш ученый или зарубежный?»
Я вспоминаю этот свой визит к Рябовой даже с удовольствием, потому что она, несмотря ни на что, проявила уважение к науке и приняла правильное решение.
Мои же личные отношения с Физтехом, как иначе называется Московский физико-технический институт, имели долгую историю. В 1947 г. в МФТИ происходил первый набор студентов. Для приема вступительных экзаменов были мобилизованы молодые сотрудники физических институтов Академии наук и других организаций. Я тоже попал в их число. Предполагалось, что все экзаменаторы в дальнейшем станут по совместительству, на полставки, работать на кафедрах нового института. Но в сентябре 1947 г. выяснилось, что к преподавательской работе допустили не всех. Из списка были вычеркнуты двое — я и сотрудник И.В. Курчатова Андрей Михайлович Будкер. Надо сказать, что настоящее имя Будкера было Герш Ицкович, но Игорь Васильевич Курчатов для благозвучия сам придумал ему новое имя. Оба мы, и я, и Будкер, создали потом новые физические институты. А.М. Будкер является основателем Института ядерной физики, который в настоящее время носит его имя, в Новосибирском центре АН.
Но тогда, в 1947 г., нас просто выкинули из списков преподавателей МФТИ, и никаких объяснений мы, естественно, не получили. В мае 1948 г. я защитил в Институте физпроблем кандидатскую диссертацию, и в сентябре меня зачислили в МФТИ старшим преподавателем. Но мне удалось проработать только один семестр. В январе 1949 г. замдекана С. сообщил мне, что я не смогу продолжать преподавательскую работу в МФТИ, так как у меня нет допуска к секретной работе. Если учесть, что в Институте физпроблем мы как раз в это время заканчивали расчеты по первой советской атомной бомбе, и я имел все возможные допуски по самой высшей категории секретности, это прозвучало даже не как прямая ложь, а просто как издевательство. Я решил сообщить об этом «недоразумении» директору ИФП А.П. Александрову. Однако он не выразил ни особенного удивления, ни сочувствия и только посоветовал мне поговорить об этом с генералом А.Н. Бабкиным, который курировал наш институт. Последний также не возмутился учиненным в МФТИ произволом, и только сказал мне: «Да зачем вам с ними вообще иметь дело?”
Понятно, что и Александров, и Бабкин отлично понимали, что скрывалось за моим увольнением из МФТИ, но согласно существующим правилам не стали вмешиваться в происходящее в чужой епархии. Для меня же это увольнение было не только моральным ударом — мне отказали в доверии общаться со студентами — но и нанесло довольно заметный урон моему скудному в то время финансовому положению младшего научного сотрудника. Ничего сверх зарплаты я за выполнение спецзадания Правительства в Институте физпроблем не получал, в то время как преподавание давало бы заметную надбавку, равную половине моей зарплаты. Только в 1950 г. мой «самоотверженный» труд был замечен, и я был переведен в старшие научные сотрудники. А моя связь с МФТИ прервалась до 1954 г.