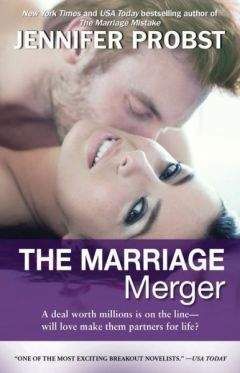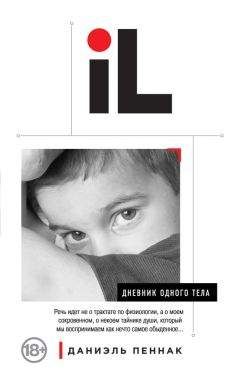Даниэль Пеннак - Дневник одного тела
29 лет
Пятница, 10 октября 1952 года
День рождения. Я надолго его запомню! Взяв Брюно на руки и высоко подняв над собой, чтобы показать гостям это восьмое чудо света, я вместе с ним свалился с лестницы. Упал вниз лицом и покатился кубарем до самого конца пролета. Одиннадцать ступенек. Инстинктивным движением я свернулся калачиком, закрыв собой Брюно. И все время, пока мы катились вниз, я прижимал его головку к своей груди, защищая его локтями, бицепсами, спиной — закрывшись, словно раковина. Так мы и докатились под испуганные крики до самого низа. Гости к тому времени уже все собрались. Тыльной стороной ладоней, костями таза, коленными чашечками, щиколотками, позвоночником, плечами я ощущал удары каменных ступеней, но я знал, что сыну, которого я, вогнув грудь и втянув живот, прижимал к себе, ничего не грозит. Инстинкт сделал из меня человекобуфер. С таким же успехом можно было бы обернуть Брюно матрасом. Однако я никогда не занимался дзюдо, не учился правильно падать. Что же это было? Наглядное проявление родительского инстинкта?
* * *29 лет, 2 месяца, 22 дня
Четверг, 1 января 1953 года
Вчера встречали Новый год у Р. Раздача сигар. Разговор о сравнительных качествах кубинского, манильского и не помню уж какого еще табака. Спросили моего мнения. Я же смотрел, как эти знатоки старательно обрезают кончики своих длиннющих сигар, и не мог отделаться от мысли, что анус, отделяющий часть экскремента, выполняет ту же функцию, что и сигарная гильотинка. И в обоих случаях на лице одно и то же сосредоточенное выражение.
* * *29 лет, 5 месяцев, 13 дней
Понедельник, 23 марта 1953 года
Никогда не думал, что ребенок может родиться с улыбкой на лице. Оказывается, может, и доказательство тому — Лизон, родившаяся сегодня днем, в пять часов десять минут, кругленькая, гладкая, спокойная, улыбающаяся, как маленький, крепенький лысый Будда, смотрящий на мир взглядом, в котором ясно читается стремление к умиротворению. При взгляде на новорожденного — так было уже, когда родился Брюно, — я не принимаюсь выискивать в нем сходство с тем или иным родственником, играя в этакие семейные пазлы, а ищу на этом новеньком, с иголочки личике черты характера. Малышка Лизон, не доверяй отцу, который сразу же приписал тебе способность к миротворчеству.
* * *29 лет, 7 месяцев, 28 дней
Воскресенье, 7 июня 1953 года
Ласки, идущие просто от нежности, и ласки, которыми мы пытаемся прекратить плач. Какая разница! В первом случае ребенок чувствует себя окруженным вашей любовью, во втором — ему хочется вышвырнуть эту любовь в окно.
* * *30 лет, 1 месяц, 4 дня
Суббота, 14 ноября 1953 года
Откуда у Моны эта ловкость в обращении с детьми? Сам я всегда боюсь им что-нибудь поломать. Тем более что, когда я держу на руках Лизон, Брюно нетерпеливо топает ножками, желая тут же занять ее место. Вот она — бедность французского языка: я был безруким, когда таскал на себе Брюно, и остаюсь таким же, таская Брюно вместе с Лизон. Одной руки у тебя нет или двух, есть только одно слово — безрукий[13]. С одноногими и безногими дело обстоит лучше, с одноглазыми и слепыми — тоже.
* * *30 лет, 3 месяца, 18 дней
Четверг, 28 января 1954 года
Этот сон не пересказать. Я просыпаюсь в пять утра от щемящей тоски. Точнее, я знаю, что тоска ждет меня, когда я проснусь. Я еще сплю, но чувствую, что тоска вот-вот вытащит меня, словно акушерскими щипцами, из сна, крепко стиснув мне сердце, будто головку младенца. Не надо, не хочу! Нет, нет! Ловко извернувшись, мое сердце выскальзывает из щипцов, тоска отпускает тело, и оно с легкостью дельфина снова ныряет в сон, но это уже другой сон, изменилась его природа, вернее, текстура, сон превратился в нечто знакомое, приятное, и при этом — прозрачное, в убежище, где меня не достанет никакая тупая тоска, сон стал всепонимающим, потому что мое тело только что с головой погрузилось в «Опыты» Монтеня! И тут я просыпаюсь и сразу записываю, как укрылся от тоски в легкой, текучей пучине «Опытов» — такова сущность этой книги, этого человека!
ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОН
…
Перерыв длиной в два года. Здесь опять дневник уступил место становлению «социальной личности». Профессиональный рост, политическая борьба, всевозможные дебаты, статьи, выступления, встречи, поездки по всему свету, лекции, коллоквиумы — короче говоря, сырье для тех самых мемуаров, написать которые тридцать лет спустя будет убеждать меня Этьен. Мона смотрела на все это иначе: мир спасаем, а своих детей забываем! Действительно, Брюно часто потом упрекал меня в том, что в тот период нашей жизни чувствовал себя сиротой. Отсюда, несомненно, и наше взаимонепонимание.
* * *32 года, 4 месяца, 24 дня
Понедельник 5 марта 1956 года
Сегодня утром, когда я встречал Тижо у выхода из тюрьмы, мне внезапно вспомнился день его рождения. Или, точнее, само его рождение — ведь он родился у меня на глазах! В буквальном смысле слова! Я своими глазами видел, как он вышел у Марты между ног — крепко зажмурившись и стиснув кулачки, как будто входил в жизнь уже с твердым намерением не давать ей спуску. Мне было десять лет, и это зрелище потрясло меня до глубины души. Но сегодня, глядя, как дверь следственного изолятора (щель в огромных железных воротах, врезанных, в свою очередь, в рыжий камень тюремной ограды) выталкивает его наружу, я вдруг снова увидел, как он появился между ног у Марты, оравшей благим матом (должно быть, это и побудило меня тогда открыть дверь ее комнаты), увидел не слишком обеспокоенную воем своей пышнотелой невестки Виолетт, которая тут же прогнала меня: «А ты что тут делаешь, а? А ну-ка, брысь отсюда!» — и я захлопнул дверь, но лишь для того, чтобы немедленно приклеиться носом к окну, где Виолетт, смеясь, несмотря на окровавленные руки, поднимала вверх Тижо — целого, со всеми ручками-ножками; увидел обливающуюся путом Марту в промокшей постели, самого Тижо — черно-багрового, орущего что есть силы, и себя — как какая-то неведомая сила оторвала меня от окна, и я оказался нос к носу с мертвенно-бледным Манесом, который, дыша водкой, спросил меня с таким видом, словно от моего ответа зависело, жить мне дальше или нет: «Ну, что? Парень или шлюшка?» Это был парень. Но такой малюсенький, что, получив при рождении имя Жозеф (в честь Сталина), он сразу превратился в Тижо. Дверь тюрьмы закрылась за его спиной, Тижо посмотрел направо, потом налево, оценивая перспективы свободной жизни, заметил наконец меня на противоположной стороне улицы и, смеясь от радости, раскрыл мне объятия.
* * *32 года, 5 месяцев, 1 день
Воскресенье, 11 марта 1956 года
Половину утра Брюно ходит высунув язык, который болтается у него, как у размечтавшейся собаки. Когда я спросил его о причинах этой демонстрации, он ответил с самым серьезным видом: Языку скучно сидеть внутри, вот я и вывожу его погулять время от времени. Мальчик еще живет и воспринимает себя как разбросанные в беспорядке детали пазла. Он знакомится с составляющими его элементами, будто с новыми товарищами. Он прекрасно понимает, что речь идет о его языке, и ни секунды в этом не сомневается, но он еще может играть с ним, представляя его чем-то инородным, и выводить на прогулку, как собачку. Язык, рука, ноги или мозг (в последнее время он часто беседует со своим мозгом: тише! Мы с мозгом разговариваем!) — все эти детали самого себя еще способны его увлечь. Но пройдет несколько месяцев, и мы больше не услышим от него подобных высказываний, а через несколько лет он и сам не поверит, что говорил такое.
* * *32 года, 6 месяцев, 9 дней
Четверг, 19 апреля 1956 года
Тижо заметил, что, чихая, я говорю: «Апчхи!» — буквально. Он считает это проявлением благовоспитанности. Вечно твои хорошие манеры! Ты такой воспитанный, что, если бы твоя задница умела говорить, она произносила бы четко: «Пук!»
* * *32 года, 10 месяцев
Пятница, 10 августа 1956 года
Глядя, как дети чистят зубы, я должен признаться, что сам не исполняю ничего из того, что мы с Моной требуем от них: чистить зубы три раза в день, сосредоточившись только на этом деле, сначала верхние — сверху вниз, пожалуйста, потом нижние — снизу вверх, пожалуйста, передние и задние, а напоследок все сразу — круговыми движениями, да подольше, с чувством, с толком, не меньше трех минут. Сам я сохранил привычку чистить зубы только вечером, беспорядочно и наспех, чтобы не дышать на Мону съеденным ужином. Иными словами, не люблю я чистить зубы. Я прекрасно знаю, что зубной налет делает свое дело, оседая на зубах как ледяной припай, что с возрастом моя улыбка пожелтеет и обнажится, что когда-нибудь эту стену можно будет взять только отбойным молотком, что меня ожидают мосты и вставная челюсть, но все равно ничего не могу с собой поделать и, как только подходит время чистить зубы, тут же вспоминаю, что у меня еще есть масса неотложных дел: вынести мусорное ведро, позвонить по телефону, доделать срочную работу… Можно подумать, что привычка откладывать все на потом, которую я давно уже победил и на всех фронтах, сумела все же окопаться и укрепить свои позиции именно в этой области — в области гигиены полости рта. Откуда это все идет? От скуки. Чистка зубов для меня — это преддверие вечности. Бульшую скуку на меня способна нагнать только церковная месса.