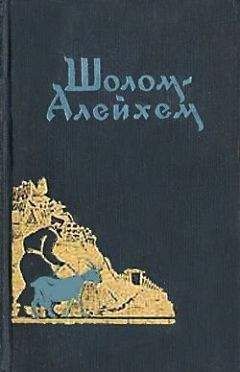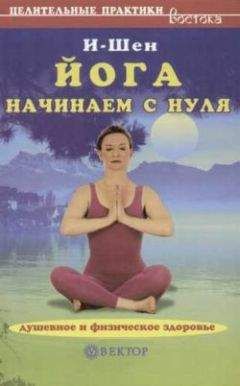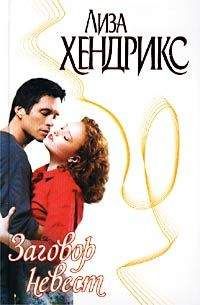Фридрих Горенштейн - Место
– Культ ставит все дрязги между людьми на политическую основу, – говорил друг Арского, Костя.
«Я вполне мог бы высказать эту мысль, – с досадой думал я, – как просто сказал и привлек внимание… А на что оно ему?.. Он и так с Арским на „ты“…»
– Влюбленность ничего не имеет с любовью общего, – сказал парень в центре стола, – так же как физически разные проявления – смех и кашель… Смех может перейти в кашель, а вот кашель в смех – такое редко бывает…
«Это что-то из другой оперы, – подумал я, – значит, и так можно… Впрочем, я прослушал начало… Очевидно, оно связано как-то с культом».
– А вот, например, стихи удивительно своеобразные… – крикнул Вава (он сидел рядом с Арским). – «В тот вечер, хмурый и осенний, лежали рядом я и ты… И друг на друга, точно волки, урчали наши животы…»
– Ну, это уже литературное хулиганство, – сказала одна из красивых женщин (некрасивой шестнадцатилетней девочке стихи, кажется, понравились: она радостно взвизгнула).
– Верно, – вынес приговор Арский, – отвратительное словоблудие.
– Я, собственно, не говорю, что они хороши, – пробовал ретироваться, сохраняя достоинство, Вава, – я их привел как образец…
«Хорошо тебя отщелкали по носу, – злорадно подумал я, – нет уж, так нелепо я не вылезу… Лучше уж промолчу весь вечер и уйду не замеченный обществом… А жаль… Возможность есть, чтоб сказать что-либо удачное… необычное… Вот, например, у нас в обществе это любят… Несколько раз „на телевизоре“ начинался разговор о политике, и все рабочие, как один, ругали Хрущева, а о Сталине говорили с почтением… Сталин войну выиграл и каждый год снижение цен делал… На Рахутина, который пробовал возражать, так накинулись, что он еле ноги унес».
– Мало ли что пишут, – крикнул кто-то рядом, – в тюрьмы сажал… А на то и власть, чтоб сажать…
«Конечно, мне не надо так примитивно высказываться, а со своим критическим к этому отношением… И в то же время поставить как бы вопрос, адресуя его непосредственно Арскому…»
– «Какая-то жизнь пролетела по комнате, – начал читать нараспев без предупреждения Костя, – ни муха, ни моль, ни комар, ни жучок… А нечто иное, живое и маленькое…»
Вдруг его голос дрогнул, он замолк, прикрыл глаза и залпом выпил полстакана коньяка. Встала Цвета. Весь вечер (впрочем, давно уже была ночь) она сидела молча и в непосредственной близости от Арского, но далее, чем Вава, и как-то неудобно, на углу стола. Она встала, некрасивая, близорукая, сутулая, и сказала:
– Мне передали подстрочник одного из недавно умерших поэтов. Он прожил на свободе три месяца с небольшим… Я сделала перевод… – Она начала читать: – «Я видел убийцу, он шел мне навстречу, в зеленом, застегнутом наглухо френче. Он бил сапогом мои ноги больные, и тонко звенели подковы стальные…» – Цвета читала нараспев, по-современному, модерно, однако тишина воцарилась вдруг за многоликим, полным внутреннего самолюбия и соперничества столом.
Стихи не были отмечены талантом, но в них были кусочки живой боли, и к тому же Цвета несколько придала им литературный порядок. Арский встал и расцеловал Цвету в обе щеки. Раздались аплодисменты. Правда, наряду с аплодисментами раздались и отдельные критические замечания в адрес некоторых строк. Но на меня эти замечания не возымели действия. Я был настолько переполнен чувствами, что потерял осторожность и, лишь сказав уже несколько фраз, понял, что высказываюсь, причем без подготовки, не упорядочив мысли, достаточно примитивно их формулируя.
– А у рабочих, например, – говорил я, – Сталин по-прежнему любим… Сталин для них генералиссимус, который Гитлера разгромил и Берлин взял…
Я чувствовал, что говорю в полной тишине и все смотрят на меня, в том числе и Арский. Я хотел было обрадоваться, поскольку далее начинало у меня складываться довольно интересное продолжение и план, можно сказать, неожиданно начинал осуществляться самым лучшим образом. Но какой-то в очках в середине стола (в нашем конце стола тоже сидел человек в очках, чем-то они даже похожи, оба одинаково горячи), но в данном случае этот в середине стола вдруг крикнул:
– Да что же это такое… У меня семья разрушена… Меня гноили… У меня легкого одного нет… А вы здесь Сталина восхвалять… Мерзавец! – припадочно крикнул он мне (я страшно боюсь припадочных и теряюсь перед ними). – Мерзавец! – заваливаясь на стул, повторил очкастый.
Это была катастрофа. Я слышал, как Вава сказал Цвете громко:
– Я тебя предупреждал… Не надо было приглашать провинциала… А ты на своем… Теперь облизывайся…
Цвета сидела отвернувшись.
– Вы меня не поняли, – испуганно залепетал я очкастому, которого каплями отпаивала Гая, – я сам против Сталина… То есть мои взгляды противоположны… У меня самого…
Арский посмотрел на бледное лицо очкастого и раздраженно махнул на меня рукой.
– Хотя бы сели, – сказал он мне с неприязнью.
Это была уже не просто катастрофа, а полный конец. Дорога к новой жизни, на которую я так надеялся, отрезалась если не навсегда, то надолго. К тому ж я опасался, что после произошедшего порвется моя связь с семьей Бройдов. К счастью, раздался звонок и вошел новый гость. Он был пьян и бедно, неряшливо одет, однако пошел к Арскому, и они обнялись. Потом он опустился на колено перед Гаей и публично поцеловал ей ногу (ему и это было позволено. Чувствовалось, что он здесь баловень).
– Аким, – радостно крикнула шестнадцатилетняя, – прочтите про троллейбус.
Аким (оказывается, нового гостя звали Аким) посмотрел на девушку и, стоя посреди комнаты, начал басом (неожиданно басом. Я был уверен, что у него фальцет):
– «Я попал под троллейбус, на улице имени Ленина… Я попал под троллейбус, но выдюжил… Вот я живой…»
– Не надо, Аким, – сказал Арский.
– Что, – побагровев, крикнул Аким, – в придворные выбился?.. (В последнее время в этой комнате чрезвычайно кричали.)
– По-моему, ваши вирши элементарно непристойны, – сказал Акиму седеющий блондин.
Гая поспешила замять скандал:
– Просто, Аким, здесь присутствуют и чужие…
– Ваш солипсизм, – не унимался седеющий блондин, – ваше желание доказать, что мир вертится вокруг вас, смешно и наивно…
Это был тот самый нравственный удар, о котором я уже упоминал. Направленный не в меня, он поразил мою тайну, мою идею, оказывается, не оригинальную и имеющую даже научный термин. Я был настолько удручен, что не заметил вначале, как в дело вклинилось новое действующее лицо.
Глава десятая
Собственно, оно было не новым. Речь идет о том самом курносом, который сидел рядом со мной и даже просил меня передать ему блюдо с грибочками. Но был курносый настолько болезненно-ничтожным, что я его в расстановке сил за столом во внимание не принял (хоть разок, кажется, мельком отметил, что курносый находился в протесте то ли к компании в целом, то ли к отдельным ее членам).
– Мне хотелось бы высказать мысли иного плана, – продолжал курносый, когда я обратил на него внимание. – Тридцать лет мы жили в России без правды, без этого национального русского блюда, такого же сытого и лакомого, как черный крестьянский хлеб… Пора быть честным… Время пришло. – Он говорил, странно запрокинув свое болезненное лицо, ни на кого не глядя, убежденно и страстно, и в короткий срок приковал к себе внимание. – Не знаю, как лучше начать, – говорил он, – может, для завязки прочесть басню… Но беда в том, что первые ее строки не совсем литературно оформлены… Хоть можно их и своими словами… Речь в них идет о земле, вернее, о поле, где каждый клочок полит потом наших предков и каждый злак добывается тяжелым трудом… Так вот, на это поле, калеча тяжелый крестьянский труд, забирается коза… Далее у меня переписано… Я прочту, – он вынул бумажку из бокового кармана, распахнув пиджак, так что я увидел довольно рваную подкладку и с горечью подумал, что курносый явился сюда с той же целью, что и я, а именно завоевать общество, – так вот, – продолжал вдохновенно курносый, – «…кот Фома, сторож, хватает эту козу за загривок… Но… Сия коза не из простого роду. Она кормилицей была известной отрасли еврейского народа. Савицкий Меир с Голдою своей и целой кучею детей козы той молоком питался, народ еврейский ею размножался. Но кот Фома не знал, что та коза была столь знаменита. Он за рога ее поймал. В участок потащил открыто. Как вдруг (представьте сторожа испуг), как шавка, в него вцепилась Малка. Явилась Голда вслед за ней, бросая молнии из очей. За Голдой выскочила Хая. За Хаей Сура, Хана, Шая, за ними Меир, Янкель и Абрум, и поднялся великий гвалт и шум…»
Думаю, курносый дочитал, пользуясь исключительно элементом внезапности. В обществах такого рода публичный честный антисемитизм вряд ли мог принести успех. В подобных антикультовских обществах, наоборот, публичное бичевание антисемитизма служило способом самоутверждения. И действительно, едва прошла первая шоковая минута, как, не сговариваясь, человек пять вскочило одновременно. В их числе Арский, Вава, седеющий блондин, один из очкастых (не мой враг, который, очевидно, произошедшим был парализован, а тот очкастый, который спорил с Арским об обществе). Все они устремились к курносому, но, по-моему, не понявшему реакцию на свою басню и по-прежнему стоявшему с бумажкой в руках. Я же сразу сообразил, что они хотят дать курносому пощечину, но, лишь когда это произошло, ужаснулся своему глупейшему поведению. Я сидел с курносым рядом и вполне мог дать ему пощечину сам, опередив остальных. Это был вернейший способ одним ударом (причем в прямом смысле) поправить свое положение в обществе, подмоченное моими неудачными рассуждениями о культе. Причем это был честный способ, так как я испытывал к курносому с самого начала презрение, еще до чтения басни.