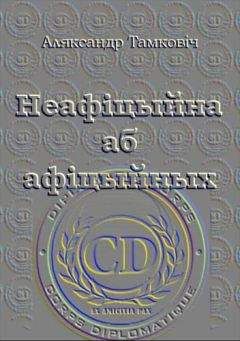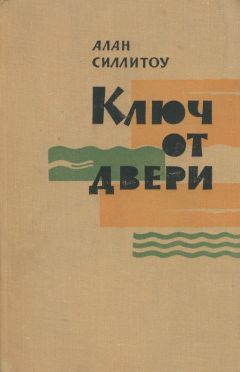Алан Силлитоу - Ключ от двери
И все-таки оно стоило того, соглашались все, потому что теперь в доме бывало больше еды. И больше денег. Но хотя прежде предполагалось, что именно отсутствие их и вызывает ссоры между отцом и матерью, вскоре стало ясно, что ссоры не прекратятся: ругались уже по привычке. Ситон как родился, с тяжелым характером, так с ним и умрет, а Вера никогда не могла настоять на своем, была беззащитна перед мужем, как прежде перед отцом. Единственное, что она действительно умела, — это тревожиться и тосковать, считая, очевидно, что не очень-то много хорошего получила от жизни и никогда ничего от нее не получит. Если не было конкретного повода для тревоги, она скучала, искала его, и почти всегда находилось что-то, из чего можно было сделать проблему. Дом был совсем невелик, у нее оставалось свободное время. Но вместо того, чтобы шить самой или чинить старую одежду, она считала, что проще пойти и купить дешевенькую новую. Руки у нее были неловкие, неуклюжие. Дыры и прорехи, требовавшие заплат, она кое-как стягивала ниткой. Хотя нужно было и постирать и приготовить еду, все-таки оставалось время для тревог, часто по самому ничтожному поводу. Иногда все члены семьи оказывались вовлеченными в бурную ссору из-за пустяков. Летели кастрюльки, шли в ход кулаки, и каждый, начиная от отца и матери, замыкался в себе, преисполненный обиды и горечи, но через несколько часов пыл в крови остывал и все опять оказывались вместе, одной счастливой семьей.
Брайн вторично долго откладывал деньги, на этот раз уже почти не таясь, и купил еще одну книгу, «Отверженные». Он прежде слушал, когда ее главами передавали по радио, и был потрясен грандиозными неожиданностями сюжета. «Девятнадцать лет за одну булку!» — эта вопиющая правда жизни вознеслась над мирными волами и непотревоженными джунглями, скрывавшими кровожадных искателей удачи «Острова сокровищ», и заглушила дурацкий крик попугая: «Пиастры! Пиастры!» Полный борьбы жизненный путь и смерть Жана Вальжана, преследуемого полицией, неуязвимого под пулями на баррикадах, пронесшего на своих плечах раненого через весь лабиринт парижской клоаки, казались Брайну реалистическим эпосом. Это была борьба между простым человеком и полицией, державшей его в тюрьмах за то, что он когда-то украл булку для детей своей нищей сестры. И после всех ужасных мытарств для человека, не желавшего быть отверженным, смерть была той единственной свободой, которую позволил ему найти автор этой горькой и мрачной книги. Хороших от дурных отделить было просто. На одной стороне Тенардье и инспектор Жавер — оба против равенства людей, потому что Тенардье нужны богачи, чтобы он мог их обкрадывать, а Жаверу — бедняки, чтобы их преследовать. На другой стороне — Козетта, Фантина, Гаврош, Жан Вальжан, Мариус Понмерси, юные, угнетаемые и революционеры, все те, кто не принимал жизнь, где хозяйничают Тенардье и Жавер. Баррикады подвергались штурмам, повстанцев убивали, а книга читалась и перечитывалась снова и снова.
На этот раз дома встретили книгу миролюбиво.
— Как! — сказал Ситон со смехом. — Вот сукин сын, опять купил книжку. Ну и ну! Мне бы стать таким умником-разумником. Ну прямо-таки кладет меня на обе лопатки своей ученостью!
Он дал Брайну четыре пенса, чтобы тот посмотрел фильм, сделанный по этой книге, и, когда Брайн вернулся домой, заставил его все пересказать.
Ситон сидел у огня, и на загнетке перед ним стояла кружка чаю. По радио передавали репортаж о футбольном матче; Вера выключила приемник, чтобы не мешал шум, и снова принялась за штопку носков. Горел свет, и слышно было, как в спальне Артур играет молотком.
— И, когда Жан Вальжан вернулся к мосту, потому что хотел сдержать свое обещание,— рассказывал Брайн отцу, — Жавера там уже не было. А когда он заглянул с моста в воду, то увидел, что Жавер (его играл Чарлз Лаутон) сиганул вниз и утопился. Тут картина и кончается, а в книге после этого еще много всего написано. Рассказать, как кончается в книге?
— Он больше слушать не хочет, — сказала Вера, и тон ее смутил Брайна, он не понял, серьезно она говорит или шутит.
— Ну как, пап, а?
— Давай, давай, сынок. Говори.
Брайн досказал все до конца. Он тщательно выговаривал французские имена, как-то слышанные им по радио, а Маргарет стояла перед ним и насмешливо улыбалась. Ее язвительный взгляд скоро достиг своей цели.
— Можно со смеху помереть, когда слышишь, как Брайн выговаривает все эти чудные слова.
— Посмейся только, я тебе всыплю, — сказал Брайн.
— Получишь сдачи, дам как следует папиным велосипедным насосом, увидишь. — Она подобралась поближе к окну и уже оттуда, в большей безопасности, наблюдала за его растущей яростью. — Воображает, что умеет говорить по-французски. Я могу еще получше тебя.
Она затараторила, изображая иностранную речь.
— Слушай, ты это лучше оставь, — сказал Брайн угрожающе.
— Будет вам, — сказал отец.
На минуту Маргарет умолкла, но чем страшнее ей становилось, тем отчетливее какой-то внутренний голос говорил: Брайн знает, что ты испугалась, а ты дразни его, докажи, что не боишься.
— Подумаешь, ученый! — крикнула она. — Только и умеет, что книжки читать.
— Оставь его, — вмешалась Вера, — не то сейчас встану и...
Брайн почувствовал, как у него задергался рот,— он даже подумал, что все это видят. Может, и в самом деле есть нечто постыдное в том, что он читает и старается правильно произносить по-французски, умеет писать, чертить карты, — будто этим он ставит себя выше остальных. Он понимал, что ему следует отнестись равнодушно к поддразниваниям, но они задевали его слишком глубоко. Он стоял возле стола, в нескольких шагах от своей мучительницы.
— Глядите-ка, сейчас заревет! — протянула Маргарет.
— Сейчас ты у меня сама будешь реветь, если не заткнешься.
Ситон встал со своего уютного места возле камина.
— Хватит, не то обоих отправлю спать, с глаз долой! Вечно вы двое грызетесь.
— Она первая. — сказал Брайн с горечью. — Всегда заводит ссору.
— Нет, папа, не я первая, — возразила она. — Это он. Все читает без конца свои книжки, скоро совсем спятит.
Она слышала, что так говорили родители, и слова ее как ножом резанули Брайна.
Он подбежал, быстро ударил ее и помчался к двери, прежде чем отец успел схватить его. Он был уже на улице и, проходя мимо окна, слышал, как плачет Маргарет, а отец говорит:
— Ну, пусть только вернется, сукин сын, я ему покажу.
Но Брайн не возвращался два часа, и за это время все успели забыть его выходку, — все, кроме самой Маргарет. Родителей не было дома, она показала ему угрожающе сжатый кулак с противоположного конца стола, когда он отрезал себе хлеба. А вскоре они вместе играли в игру «дальше всех».
Иногда утром Ситон оставался глухим к стуку в дверь, предупреждавшему, что пора на работу, и даже к Вериным попыткам поднять его.
— Вставай же, Хэролд, ведь опоздаешь. В дверь уже давным-давно стучали.
При третьем толчке он бубнил из-под одеяла, что сегодня он не пойдет.
— Ну, брось лодырничать, — уговаривала Вера. Он снова засыпал, бормоча:
— Не пойду я, к чертям... — Он хотел показать, что уж если лишился дневного заработка, то, во всяком случае, насладится тем, что будет валяться в постели, сколько влезет. Позже, уже за завтраком внизу в кухне, он говорил:— Шесть лет без меня обходились, обойдутся теперь один-то день. Я под их дудку плясать не стану.
— Вытурят тебя — и все, — отвечала Вера, убирая со стола посуду.
— Не вытурят. Скоро война. И принеси-ка обратно мою кружку: хочу еще чаю.
Подобные случаи повторялись не настолько часто, чтобы вызывать тревогу. Вера знала, что Ситон не лодырь, знал это и он сам. Трудолюбие было у него в крови, но с того времени, как его приговорили к пожизненному пособию, ему не так-то легко было начинать другую жизнь. В те дни, когда Ситон не выходил на работу, Брайн, возвращаясь из школы домой, заставал отца в более мрачном, злобном и свирепом настроении, чем это бывало с ним даже в дни самой отчаянной нужды, когда они жили на пособие.
Как-то в понедельник утром мистер Джонс не пришел в школу; из класса в класс передавали весть, что он болен, простудился, когда в пятницу, возвращаясь домой, попал под дождь. Занятия шли, как обычно, только без всегдашнего нервного напряжения. «Почему бы ему вот так не сидеть себе дома? — рассуждал Брайн. — Совсем и не нужен никакой директор». Уроки проходили приятно, но в течение этой свободной недели Брайн иногда все же ждал, что вот сейчас, собрав всю свою злобу, появится, как привидение, мистер Джонс, еще больной, и сразу спугнет радость в классе уже одним тем, что вдруг покажется за стеклянной дверью его страшная рожа. Во всяком случае, Брайн побаивался, что после драки, происшедшей в конце недели, кто-нибудь из родителей, чей сын явился домой с рассеченной бровью, донесет об этом в школу. И тогда мистер Джонс ворвется в класс во время урока закона божия и начнет вычитывать имена в списке, размахивая им перед классом. И первым в этом списке будет Брайн Ситон.