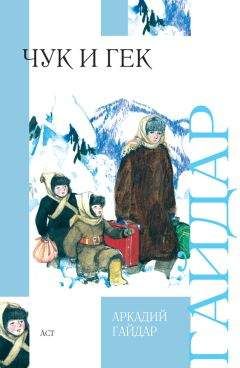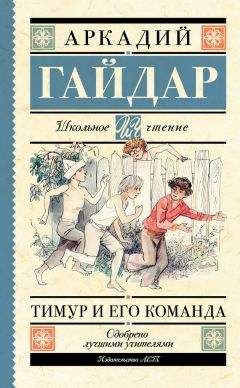Аркадий Гайдар - Обрез (сборник)
Мы работали еще около двух часов. Матрос то и дело крыл меня крепкой руганью то в виде предостережений, то в виде поощрения, то просто так. Работал я как наводчик-артиллерист в пороховом дыму. Ворочал мешки, бросался к ящикам, сдергивал войлочные тюки. Все это надо было быстро приладить на разложенные на полу цепи, и тотчас же все летело из трюма вверх, в квадрат желтого, сожженного неба…
– Баста! – охрипшим голосом сказал матрос, надевая на крюк последнюю партию груза. – Поднажали сегодня. Давай, браток, наверх курить!
Пошатываясь от усталости, выбрались на палубу, сели на скамейку, закурили. Тело клейкое, горячее, ныло и зудело. Но не хотелось ни умываться, ни спускаться по сходням на берег. Хотелось сидеть молча, курить и не двигаться. И только когда заревела сирена корабля, спустился и лениво пошел домой.
Сирена заревела еще раз, послышался лязг цепей, крики команды, клокотание бурлящей воды и, сверкая огнями, пароход медленно поплыл дальше, к берегам Персии.Рита и Николай сидели у костра. Они не заметили, что я подходил к ним. Николай говорил:
– Все равно… Рано или поздно… Ты, Рита, чуткая, восприимчивая, а он сух и черств.
– Не всегда, – помолчав, ответила Рита, – иногда он бывает другим. Ты знаешь, Николай, что мне нравится в нем? Он сильнее многих и сильнее тебя. Не знаю, как тебе объяснить, но мне кажется, что без него нам сейчас было бы намного труднее.
– При чем тут сила? Просто он больше обтрепан. Что это ему, в первый раз, что ли? Привычка, и все тут!
Я подошел. Они оборвали разговор. Рита принесла мне умыться.
Холодная вода подействовала успокаивающе на голову, и я спросил:
– Обедали?
– Нет еще. Мы ждали тебя.
– Вот еще, к чему было ожидать? Вы голодны, должно быть, как собаки!
Перед тем как лечь спать, Рита неожиданно попросила:
– Гайдар, ты знаешь сказки. Расскажи мне!
– Нет, Рита, я не знаю сказок. Я знал, когда был еще совсем маленьким, но с тех пор я позабыл.
– А почему же он знает, почему он не позабыл? Он же старше тебя! Чего ты улыбаешься? Скажи, пожалуйста, что это у тебя за манера всегда как-то снисходительно, точно о маленьком, говорить о Николае? Он тоже это замечает. Он только не знает, как сделать, чтобы этого не было.
– Подрасти немного. Больше тут ничего не поделаешь, Рита. Откуда у тебя эти цветы?
– Это он достал. Знаешь, он сегодня зашиб себе руку и, несмотря на это, залез вон на ту вершину. Там бьет ключ, и около него растет немного травы. Туда очень трудно забраться. Почему ты никогда не достанешь мне цветов?
Я ответил ей:
– У меня мало времени для цветов.
На следующий день была получка. Завтра уезжать. Чувствовали себя по-праздничному. Пошли купаться. Рита была весела, плавала по волнам русалкой, брызгалась и кричала, чтобы мы не смели ловить ее. Однако на Николая нашла какая-то дурь. Невзирая на предупреждение Риты, он подплыл к ней. И то ли потому, что я плавал в это время далеко, а ей стало неловко наедине с Николаем, то ли потому, что ее рассердила подчеркнутая его фамильярность, но только она крикнула что-то резкое, заставившее его побледнеть и остановиться. Несколько сильных взмахов – и Рита уплыла прочь, за поворот, к тому месту, где она раздевалась.
Оделись, Николай был хмур и не говорил ни слова.
– Надо идти покупать билеты на завтра. Кто пойдет?
– Я, – ответил он резко.
По-видимому, ему тяжело было оставаться с нами.
– Ступай. – Я достал деньги и передал ему. – Мы будем, вероятно, дома.
Он ушел. Мы долго еще грелись и сохли на солнце. Рита выдумала новое занятие – швырять гальки в море. Она сердилась, что у нее получается не больше двух кругов, тогда как у меня – три и четыре. Когда пущенный ею камень случайно взметнулся над водою пять раз, она захлопала в ладоши, объявила себя победительницей и заявила, что швырять больше не хочет, а хочет взбираться на гору.
Долго в этот вечер мы лазали с ней, смеялись, говорили и к дому подходили усталые, довольные, крепко сжимая друг другу руки.
Николая, однако, еще не было.
«Вероятно, он приходил уже, не застал нас и пошел разыскивать», – решили мы.
Однако прошел час, другой, а он все не возвращался. Мы забеспокоились. Николай вернулся в двенадцать часов ночи. Он не стоял на ногах, был абсолютно пьян, выругал меня сволочью, заявил Рите, что любит ее до безумия, потом обозвал… проституткой и, покачнувшись, грохнулся на пол. Долго он что-то бормотал и наконец уснул.
Рита молчала, уткнувшись головой в подушку, и я видел, что вот-вот она готова разрыдаться.
В карманах Николая я нашел двадцать семь копеек; билетов не было, и все остальное было пропито, очевидно, в кабаке с грузчиками.Утро было тяжелое. Николай долго молчал, очевидно, только теперь начиная сознавать, что он наделал.
– Я подлец, – глухо сказал он, – и самое лучшее было бы броситься мне с горы вниз башкой.
– Глупости, – спокойно оборвал я. – Ерунда… С кем не бывает. Ну, случилось… Ну, ничего не поделаешь. Я сегодня пойду в конторку и скажу, чтобы нас зачислили на погрузку опять. Поработаем снова. Беда какая!
Днем Николай лежал. У него после вчерашнего болела голова. А я опять таскал мешки, бочонки с прогорклым маслом и свертки мокрых, невыделанных кож.
Когда я вернулся, Риты не было дома.
– Как ты себя чувствуешь, Николай? Где Рита?
– Голова прошла, но чувствую себя скверно. А Риты нет. Она ушла куда-то, когда я еще спал.
Вернулась Рита часа через два. Села, не заходя в комнату, на камень во дворе, и только случайно я увидел ее.
– Рита, – спросил я, кладя ей руку на плечо. – Что с тобой, детка?
Она вздрогнула, молча стиснула мне руку… Я тихо гладил ей голову, ничего не спрашивая, потом почувствовал, что на ладонь мне упала крупная теплая слеза.
– Что с тобой? О чем ты? – И я притянул ее к себе. Но вместо ответа она уткнулась мне головой в плечо и разрыдалась.
– Так, – проговорила она через несколько минут. – Так, надоело. Проклятый город, пески… Скорей, скорей надо отсюда!
– Хорошо, – сказал я твердо. – Мы будем работать на погрузке по шестнадцать часов, но мы сделаем так, что пробудем здесь не больше десяти дней.
Однако вышло все несколько иначе. На другой день, когда я вернулся, Николай хмуро передал мне деньги.
– Где ты достал? – удивленно спросил я.
– Все равно, – ответил он, не глядя мне в глаза. – Это все равно где!
И вечером огромная старая калоша – ржавый корабль «Марат» – отчалила вместе с нами от желтых берегов, от глиняных скал «каторжного» города.Кавказ встретил нас приветливо. За три дня в Баку мы заработали почти столько же, сколько за две недели работы в Красноводске.
Мы поселились в плохоньком номере какого-то полупроститутского притона. Были мы обтрепаны, истерты, и у шпаны, заполнявшей соседние пивные, сошли за своих.
Рита в представлении героев финок и кокаина была нашей шмарой, и к ней не приставали… Обедали мы в грязных, разбросанных кругом базара харчевнях. В них за двугривенный можно было получить «хаши» – кушанье, к которому Рита и Николай долго не смели притрагиваться, но потом привыкли.
«Хаши» – блюдо кавказского пролетария. Это выполосканная, разрезанная на мелкие кусочки вареная требуха, преимущественно желудок и баранья голова. Наворотят требухи полную чашку, потом туда наливается жидкая горчица и все это густо пересыпается крупной солью с толченым чесноком.
В этих харчевнях всегда людно. Там и безработные, и грузчики, и лица без определенной профессии, те, которые околачиваются около чужих чемоданов по пристаням и вокзалам. Шныряют услужливые личности в толстых пальто, во внутренних карманах которых всегда найдутся бутылки с крепким самогоном.
Гривенник в руку – и незаметно, непостижимым образом наполняется чайный стакан, потом быстро опрокидывается в горло покупателя, и снова толстое пальто застегнуто, – и дальше, к соседнему столу.
В дверях покажется иногда милиционер, окинет пытливым взглядом сидящих, безнадежно покачает головою и уйдет: пьяные не валяются, драки нет, явных бандитов не видно, в общем, сидите, мол, сидите, голубчики, до поры до времени.
И вот в одной из таких харчевен я случайно встретился с Яшкой Сергуниным – с милым по прошлому, по дружбе огневых лет Яшкой.
Хрипел граммофон, как издыхающая от сапа лошадь. Густые клубы пахнущего чесноком и самогоном пара поднимались над тарелками. Яшка сидел за крайним столиком и, вопреки предостережениям хозяина-грека, доставал открыто из кармана полбутылки, отпивал прямо из горлышка и принимался снова за еду.
Долго я всматривался в одутловатое, посиневшее лицо, глядел на мешки под ввалившимися глазами и узнавал Яшку, и не мог узнать его. Только когда повернулся он правой стороной к свету, когда увидел широкую полосу сабельного шрама поперек шеи, я встал и подошел к нему, хлопнул его по плечу и крикнул радостно:
– Яшка Сергунин… Милый друг! Узнаешь меня?
Он, не расслышав вопроса, враждебно поднял на меня тусклые, отравленные кокаином и водкой глаза, хотел выругаться, а может быть, и ударить, но остановился, смотрел с полминуты пристально, напрягая, по-видимому, всю свою память.