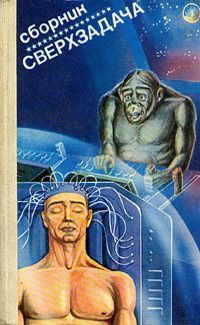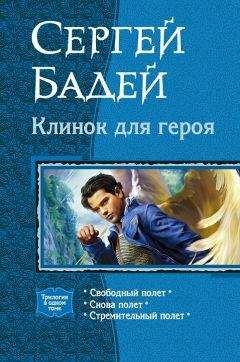Пол Остер - Измышление одиночества
Затем – несколько серий репродукций, начиная с портретов Рембрандта, на них его сын Титус. Включить их все: от изображения маленького мальчика в 1650-м (золотые волосы, красная шляпа с пером) к портрету 1655 года – Титус «корпит над уроками» (задумчивый, за партой, на левой руке болтается компас, большой палец правой руки прижат к подбородку), к Титусу в 1658-м (семнадцать лет, необычайная красная шляпа и, как писал один комментатор: «Художник изобразил своего сына с тою же проницательностью, которую обычно оставлял лишь на долю собственных черт») и последнему сохранившемуся полотну с Титусом, из начала 1660-х: «Лицо напоминает лик слабого старика, измученного болезнью. Конечно, если оглядываться на него из нынешнего времени, мы знаем, что Титус скончается раньше своего отца…»[58]
За ними – портрет 1602 года: сэр Уолтер Рэли[59] и его восьмилетний сын Уот (художник неизвестен), висящий в Национальной портретной галерее в Лондоне. Отметить: жуткое сходство их поз. И отец, и сын смотрят перед собой, левые руки у обоих на бедрах, правые ноги отставлены под углом сорок пять градусов, левые смотрят вперед, а мрачная решимость на лице мальчика как бы имитирует самоуверенный надменный взгляд отца. Помнить: когда Рэли выпустили после тринадцатилетнего заключения в Лондонском Тауэре (1618) и он отправился в роковое путешествие в Гвиану, чтобы обелить свое имя, Уот был с ним. Помнить, что Уот в безрассудной атаке на испанцев в джунглях расстался с жизнью. Рэли жене: «Я никогда не знал, что такое скорбь, – доныне». И он отправился обратно в Англию и позволил королю отсечь себе голову.
Далее опять фотографии, может – несколько десятков: сын Малларме Анатоль; Анна Франк («Это снимок, на котором я такая, как всегда нужно выглядеть. Тогда у меня точно будет возможность поехать в Холливуд. Теперь же, к сожалению, я обычно выгляжу иначе»); Мур; дети Камбоджи; дети Атланты[60]. Мертвые дети. Те, кто исчезнет, те, кто мертвы. Химмлер: «Я принял решение стереть всех еврейских детей с лица земли». Только картинки, ничего кроме. Потому что настает такой миг, когда слова подводят человека к выводу, что выразить что-либо уже невозможно. Потому что картинки эти невыразимы.
* * *Бо́льшую часть своей взрослой жизни он бродил пешком по городам, многие – за рубежом. Большую часть своей взрослой жизни он провел за небольшим деревянным прямоугольником, сосредоточенно вперяясь в прямоугольник белой бумаги еще меньше. Большую часть своей взрослой жизни он вставал и садился, а также расхаживал взад-вперед. Таковы пределы известного мира. Он слушает. Когда что-то слышит – начинает вслушиваться опять. Потом ждет. Смотрит и ждет. А когда начинает что-то видеть – смотрит и ждет снова. Таковы пределы известного мира.
* * *Комната. Краткое упоминание комнаты и/или опасностей, в ней таящихся. Это как образ: Хёльдерлин у себя в комнате.
Оживить воспоминание о том таинственном трехмесячном пешем путешествии, когда он в одиночку пересек Центральный массив, крепко сжимая в кармане рукоять пистолета; то странствие из Бордо в Штуттгарт (сотни миль), что предшествовало его первому нервному срыву в 1802 году.
«Милый друг… Я не писал тебе долго, а меж тем побывал во Франции и видел печальные одинокие края; пастухов и пастушек южной Франции, отдельных красавиц и красавцев, как мужчин, так и женщин, взраставших в страхе политической неопределенности и голода… Могучая стихия, огнь небесный и безмолвие народа, их жизнь в природе, их ограниченность и довольство их трогали меня беспрестанно, и, подобно рекомому о героях, могу по праву сказать о себе, что поражен Аполлоном»[61].
Прибыв в Штуттгарт, «смертельно бледный, очень худой с ввалившимися безумными глазами, с длинными волосами и бородой, и одетый, как нищий», он предстал перед другом своим Маттисоном и произнес лишь одно слово:
– Хёльдерлин.
Полгода спустя его обожаемая Сюзетта умерла. К 1806 году – шизофрения, а потом тридцать шесть лет, считайте, половину своей жизни он прожил один в башне, оборудованной для него Циммером, столяром из Тюбингена, – а Zimmer по-немецки значит «комната».
Циммеру
Все линии судеб разнообразны,
Как очерк гор, пути к пределам вышним –
А нас в награду здесь Господь допишет
В гармоньи с миром вечным и прекрасным.
Под конец жизни Хёльдерлина некий посетитель башни упомянул Сюзетту. Поэт ответил: «Ах, моя Диотима. Не говорите со мной о моей Диотиме. Тринадцать сыновей принесла она мне. Один – Папа, другой – Султан, третий – Император России…» И затем: «Знаете, что с нею произошло? Она сошла с ума, правда, сошла, сошла, сошла с ума».
В те годы, рассказывают, Хёльдерлин наружу выходил редко. А если и покидал башню, то бесцельно слонялся по округе, набивая карманы камешками и собирая цветы, которые потом рвал в клочья. В городе над ним смеялись студенты, а детвора в страхе разбегалась, стоило ему приблизиться, чтобы поздороваться с ними. Под конец ум его настолько смешался, что он начал звать себя различными именами – Скардинелли, Киллалусимено, – а однажды, когда гость замешкался и ушел не сразу, он показал ему на дверь и произнес, воздев предостерегающе палец: «Я Господь Бог».
В последние годы возобновились домыслы о жизни Хёльдерлина в этой комнате. Один человек утверждает, что безумие поэта было напускным – просто в ответ на удушающую политическую реакцию, охватившую Германию вслед за Французской революцией, поэт удалился от мира. Согласно этой теории, все, что Хёльдерлин сочинил в этот период безумия (1806–1843), на самом деле написано тайным революционным шифром. Есть даже пьеса, где этой мысли придано развитие[62]. В последней сцене этого произведения Хёльдерлина навещает в башне молодой Маркс. По этой встрече нам дают понять, что «Экономическо-философские рукописи 1844 года» Маркса вдохновил сочинять старый и умирающий поэт. Будь это так, Хёльдерлин оказался бы не только величайшим немецким поэтом XIX столетия, но и центральной фигурой в истории политической мысли: связующим звеном между Хегелем и Марксом. Документально подтвержденный факт – в юности Хегель и Хёльдерлин дружили. Они вместе учились в Тюбингенской семинарии.
Такого рода домыслы вместе с тем представляются О. скучными. Ему нетрудно принять присутствие Хёльдерлина в комнате. Он может дойти и до того, что заявит: Хёльдерлин не выжил бы нигде больше. Если б не щедрость Циммера, жизнь Хёльдерлина, возможно, оборвалась бы до срока. Удалиться в комнату – не значит, что человека ослепили. Быть безумным не значит, что человек онемел. Вероятнее всего, именно комната оживила Хёльдерлина, вернула ему ту жизнь, которую ему осталось провести. Как писал в «Толковании на книгу пророка Ионы» блаженный Иероним Стридонский, поясняя эпизод об Ионе во чреве кита: «Должно заметить также, что где предполагалась погибель, там оказалось спасение»[63].
«Образ человека имеет глаза, – писал Хёльдерлин в первый год своей жизни в этой комнате, – у луны же имеется свет. У царя Эдипа, возможно, глаз было больше, чем нужно. Страдания этого человека – они мнятся неописуемыми, невыразимыми, невыражаемыми. Если драма представляет нечто подобное, то вот почему. Но что же находит на меня, пока я сейчас думаю о тебе? Подобно ручьям, конец чего-то уносит меня, а раскидывается оно Азией. Разумеется, немощь эта – у Эдипа она есть тоже. Разумеется. Вот почему. Страдал ли и Геракл? И впрямь… Ибо бороться с богом, как Геракл, – вот что есть немощь. И бессмертие в средостенье зависти сей жизни, участие в нем, тоже есть немощь. Но немощь же и то, когда человек веснушчат, весь покрыт пятнами во множестве! Сие делает прекрасное солнце: это оно возбуждает всё. Оно ведет юношей путями их, маня своими лучами, словно бы розами. Немощи, несомые Эдипом, похожи на сие, когда бедняк жалуется, что ему чего-то недостает. Сын Лая, бедный чужак в Греции! Жизнь есть смерть, а смерть – нечто вроде жизни».
* * *Комната. Возражение вышеприведенному. Либо: причины быть в комнате.
«Книга памяти». Книга пятая.
Через два месяца после смерти отца (январь 1979-го) брак О. распался. Трудности какое-то время копились, и наконец было принято решение расстаться. Одно дело для него было сживаться с этим разрывом, уныло сокрушаться по его поводу и все же понимать, что он неизбежен, и совершенно другое – проглотить его последствия: разлуку с сыном. Мысль об этом была ему невыносима.
Он переехал в эту комнату на Вэрик-стрит в начале весны. Следующие несколько месяцев мотался челноком между этой комнатой и домом в округе Датчесс, где они с женой жили последние три года. Среди недели: одиночество в городе; по выходным: поездки в деревню, за сотню миль, где он ночевал в своем бывшем рабочем кабинете и играл с сыном, тому и двух еще не исполнилось, и читал ему драгоценные книги того периода: «Грузовики, поехали!», «Продаются кепки»[64], «Матушку Гусыню».