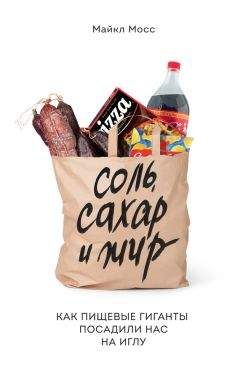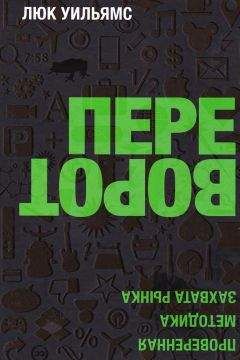Олег Ждан - Белорусцы
***
На другой день после взятия города, Трубецкой отправил войско по направлению к Могилеву: никак теперь не прокормить здесь весь полк. Сам остался, так как был у него еще один наказ государя: везде искать умелых людей, везти в Москву. Распоряжение такое он передал полковникам и полуполковникам, сотникам. Поворотливые Кулага и сотник Бурьян явились уже к вечеру, привели переметчика Кукуя.
— Мастера какие в городе есть?
Кукуй тотчас упал на колени:
— Есть один недосека, князь, — произнес он. — Плотник Никола Белый. Хороший плотник, топор у него заговоренный.
Князь насмешливо смотрел на него.
— За что ни возьмется, все звенит.
— Как звенит? — спросил Бурьян и коленом пихнул его в спину. — Говори понятно!
— Звоном звенит, панок, сам слышал. Быдто и сверху, и сбоку.
— А отзаду?
— Отзаду? — опять получил в спину. — Не знаю, княже.
— Дурак, — сказал Бурьян. — Кто еще?
— Еще есть кафельщик хороший, Степка Иванов. Кличка у него Полубес.
— Что за кличка?
— А кто ж его знает. Так прозвали люди. Сказывают, малюет хорошо, узорочно. Намалюет козу — она траву скубет, молоко дает. Кошку намалюет — мышей ловит.
— Что ты говоришь, дурень? — Бурьян готов был влепить Кукую оплеуху, но не решился при князе, оглянулся: что делать?
— Бери обоих, — приказал Трубецкой Кулаге, любимому полуполковнику.
Странный город. Заговоренные топоры, намалеванные козы, кошки...
Впрочем, все пригодятся в Москве после войны.
Какой-то мужичок с реденькой бородкой, широко улыбаясь, подходил к ним и, глядя на князя, ласково повторял раз за разом: «Царев град, царев!»
Чем-то его вид задел Трубецкого.
— Что он бормочет? — обратился к Кулаге.
— Царев град, говорит.
— Кто он? — нахмурился князь.
— Божий человек, — сказал Кукуй. — Андрюха — голова два уха. Свистит как соловей, а поет — что ангел.
— Этого не надо, — поморщился Трубецкой.
Два месяца спустя, в пору ясного бабьего лета, от сохранившейся в пожарах Троицкой церкви, после общей молитвы Пресвятой Богородице Одигитрии-путеводительнице, отправлялся обоз в Москву. На каждой крестьянской телеге, запряженной печальными беспородными лошадьми, сидели люди: по пять-шесть человек. То были мастеровые, собранные по всем ближним городам и весям, для отправки в Москву. Были здесь плотники, кузнецы, кафельщики, гончары, ткачи, медники, жестянщики, стеклодувы... Был среди них и мстиславский кафельщик-ценинник Степан Иванов по прозванию Полубес. Оказавшись в Москве, он украсил чудными изразцами, сохранившимися до сего времени, храмы Иосифа Волоколамского, Новоиерусалимского, Солотчинского, Григория Неокесарийского, Покрова Богородицы в Измайлове,— и тем прославил на Москве себя и далекий город Мстиславль.
Через день Трубецкой отправлялся в Могилев. Полки его с Долгоруковым, Пожарским, Куракиным уже наверняка приближались к городу.
Свою верховую лошадь князь отдал конюхам, сел в карету, позвал к себе полуполковника Кулагу. Когда выезжали из Мстиславля, увидели в центре посада людей, большей частью женщин, возле пожарища. Приостановились.
— Что они?
— Молятся.
— Церковь была здесь, — подсказал Кулага.
Трубецкой молчал.
От толпы отделился человек и рухнул на колени перед каретой князя.
— Возьми меня в службу, князь! — завопил он. — Мне тут не жить... Забьют католики! — то был переметчик Кукуй.
— Трогай! — сказал Трубецкой кучеру, но тот то ли сильно заинтересовался, то ли не расслышал. — Что стоишь? — полоснул его плетью по спине.
Не столько от боли, сколько от испуга кучер ударил по коням, карета рванулась и помчалась, поднимая облако пыли.
СТРАНСТВИЕ
Эпизод из жизни знаменитого мастера-ценинника Степана Иванова-Полубеса
На третьем году жизни в Москве Степан Полубес затосковал, казалось, без всякой на то причины. Его уже хорошо знали, как замечательного кафельщика, изразцы его увидела царица Мария Ильинична (Ильична — говорили в те времена) и предложила украсить внутренние ее палаты. Была у него и женщина — Варя. В Гончарной слободе он жил в чужом доме, а у Вари была пусть небольшая, но своя избенка, а главное, Варя его любила и, лежа на его руке, тихо повторяла, посмеиваясь: «Возьми меня замуж, Степушка! Ты еще не знаешь, какая я хорошая! Деток я тебе рожу сколько хочешь! Жить буду, сколько скажешь!..» Приходил Степан не часто, но ничего не скроешь на узкой слободке, с утра до вечера бабы обговаривали ее. Только Варе до их обговоров дела нет.
Степан молчал, и Варя знала, почему: он ее не сильно любил. А любил он другую женщину, которая осталась в Мстиславле, когда по указу царя Алексея Михайловича мастеровитых белорусов увезли в Москву. В указе том было сказано: «брать белорусцев с женами и детьми, у кого есть, на вечное жительство». Но женщина та, а точнее — невеста, Ульяница, сказала: «Как же я поеду с тобой, Степушка, если мать моя при смерти? Как же я оставлю ее? Как я жить буду после этого? Как в святую церковь войду?» — «А как мне жить без тебя в чужом краю?» — спрашивал Степан не ради ответа, а потому, что сильно болела душа. А потом они всегда долго молчали, потому что ответов на такие вопросы не было и не могло быть. «Может, мне сбежать от московитов куда в деревню?» — «Куда? — возражала Ульяница. — Они тебя все равно найдут. Вон сколько войска у них. Поезжай, Степушка. А я досмотрю мати и приду к тебе». — «Как ты дойдешь? Как найдешь меня? Москва — не Мстиславль, она большая. Там вон одних колоколен сорок!» — «Уж я знаю, что говорю. Дойду и найду. Только ты жди меня».
И так целовала его, прощаясь, что все тридцать пять человек, уже сидевшие на телегах, и даже стражники с сотником Бурьяном притихли, а бабы горько заплакали, хотя ехали в дальний путь с мужьями и детьми.
Три года терпел, ждал Степан — и затосковал. И решил идти в Мстиславль, когда потеплеет, чтобы, опять же, по теплу вместе с Ульяницей вернуться в Москву. Насушил сухарей, взял криво строганную ложку и кружку, которые сторговал на базаре за полкопейки, положил все это в заплечный мешок. И однажды Варя пришла к нему, в его закуток, а в закутке никого нет. Она и на следующий день пришла — нет. И на следующий...
Был он в это время уже далеко за Москвой, шел по городам и весям, по лесам и полям, холмам и низинам, и было ему легко и весело, и с каждым днем веселее. Шел он и напевал песни, а еще и вслух, и мысленно разговаривал с Ульяницей, которая, конечно же, ждала его и, может быть, чувствовала, что он идет. Шел налегке, была у него только котомка, а в ней узелок с сухариками, узелочек с малыми денежками и женские сапожки, купленные в Москве. Дорогу он помнил плохо, но знал главное: через Можайск, Вязьму, Смоленск, затем на Монастырщину. Однако сперва решил зайти в Воскресенск, хотя это было совсем не по пути. Хотел встретиться с отцом Гавриилом, испросить благословения, да и проверить, как будут слушаться ноги: от Москвы до монастыря примерно семьдесят верст. Что ж, все получилось. Вышел ранним утром, когда Гончарная слобода еще спала. Никто и не заметил, как он покидал Москву и к вечеру следующего дня был в Воскресенске. Отец Гавриил ему обрадовался, пригласил на вечернюю трапезу и благословил на дорогу. А после заутрени Степан, не оглядываясь больше ни на Москву, ни на Воскресенск, пошагал быстро и бодро.
Конечно, к вечеру он сильно уставал, так уставал, что хотелось лечь посреди поля, и лег бы, если бы не голод, а сухарики, которыми запасся, давно закончились. Он шел, пока не попадалась на пути какая-либо деревня, и тогда круто сворачивал к ней, а еще точнее — к бабам, что всегда хлопочут в огородах около хатки и с интересом послушают странника. Охочи они услышать что-нибудь новенькое — это и выручало Степана. Просил водички в собственную кружку и произносил простые слова: «Из Москвы иду». Тотчас следовал вопрос: «А куда?» — «В Мстиславль». — «Где это?» — «Далеко...» Завязывался разговор. А когда узнавали, что идет за невестой, которая три года ждет его, тут и обязательный ужин, и ночлег. Но ведь и в самом деле было что рассказать и о Мстиславле, и о Москве. Тем более о той войне.
Долго шел. Трава выросла на полях, потом ее скосили, высушили, сбили в стога, а он все шел. Вспоминал о том, что было, мечтал о том, что будет, а когда, наконец, миновал Монастырщину, а затем и Пустынки и начал приближаться к Мстиславлю, ему стало страшно. Есть ли он, город Мстиславль? Не было его, когда их увозили в Москву, только несколько мужицких хат осталось на окраинах. Ждет ли Ульяница, к которой так прилепилась душа?
Он, когда их увозили, ни о чем и думать не мог, кроме нее. «Эй! — порой окликали его и мужики, и бабы. — Ты что? Эй-эй!» А через полчаса опять: «Эй-эй!» Семь телег ехали одна за другой, на каждой — по шести человек. Три стражника сопровождали, четвертый — сотник Бурьян. Эти шли верхом.