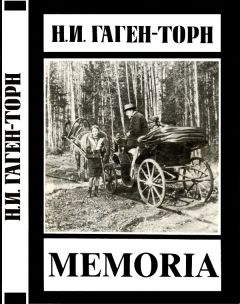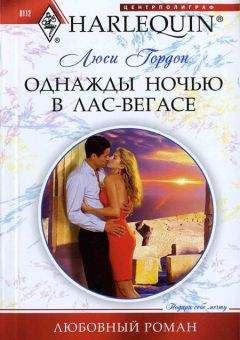Нина Гаген-Торн - Memoria
Колыма. Эльген, 1940
Л.*
Будет время — замкнется круг:
Жизни широк размах.
Уж ветров студеных звук
Солью осел в волосах.
Гнев и горечь в углах рта,
Глаз зеленеющих твердь.
Нас отделяет черта
От тех, кто не знал смерть.
Но горней идя тропой,
В мир возвращаясь опять,
Помните: воина в бой
Рог не устанет звать.
Сумрачный звездный свет
Предвестник, что Солнце идет.
И память прожитых лет
Не мести, а мудрости ждет.
Дорога «на материк». 1942
* Л. — Лима — Соломон Давидович Цирель-Спринцсон, с которым вместе возвращались «на материк».
Возвращение
Как странно тем, кто видел Смерть,
Вернуться в жизнь опять.
Вложить персты в земную твердь
И вкус и запах ощущать:
Тяжелых бревен слышать вес,
На стеклах — легкий пар,
В снегу от окон светлый крест,
И тюль, и самовар,
И кем-то мытый лак полов,
И чей-то отчий дом.
А ты пришел из страшных снов,
С котомкой за плечом.
Был сдвинут смысл привычных дел,
Шел бой. И в пустоте
Ты даже думать не умел
О том, как жили те,
Кто оставался за чертой,
В спокойной Лете лет.
Как странно тем прийти домой,
Кто видел смерти свет!
Возвращение
Осмысливая и вспоминая лагерный период жизни, Нина Ивановна в 1965 году писала:
«...На Колыме мы увидели всех представителей III Интернационала, всех коммунистов, убежавших в СССР от гитлеровского режима,— я их встречала в колымских лагерях, потрясенных и не понимающих: что же произошло?!
А фюрер Гитлер уступил вождю Сталину Прибалтийские республики. Забирая себе Польшу, великодушно предоставил ему Карпатскую Русь. И гигантский колосс Советского Союза навалился на маленькую Финляндию, преподнося это как борьбу с белофиннами, а по существу, просто отбирая в свое владение весь Финский залив, который был нужен тянущему руки в Прибалтику Левиафану.
К этому времени уже давно исчезли в «доме Васькова» мои друзья-оппоненты, свято верившие, что «попираемая и дискредитированная Сталиным идея коммунизма должна быть возрождена нашей кровью». И охотно отдававшие эту кровь. Я безмерно уважала в них эту жертвенную традицию русской интеллигенции. Но я понимала, что этой малой каплей крови не уничтожить кровавые моря, пролитые Сталиным. Что, с точки зрения исторического процесса, в Человечестве нет разницы между фигурами Муссолини, Гитлера и Сталина. Это — единый, характерный для XX века кризис капиталистической системы и развитие централизованного Государства, взявшего на себя руководство плановым производством и опирающегося на рычаги в виде правящей партии. Носят ли они черные рубашки, коричневые рубашки или красные билеты в кармане — нет разницы. Они — орудия государственной централизации, сосредоточенной в руках Вождя. А во имя этой централизации и полноты власти вождь должен уничтожать все инакомыслящее. Он неизбежно должен стремиться к уничтожению всякого, кто может стать соперником, всякого, кто подвергнет критике Его, ибо он — воплощение централизации.
Так они и делали, стремясь создать вокруг себя пустое место. А я задумывалась: что же будет дальше?
У абсолютной монархии, декретировавшей свою божественность, был закономерный выход — такой же божественный наследник, принимающий власть. На этом держались династии фараонов, династии христианских, китайских и ассирийских монархов.
Если идеи божественности недостаточно внедрялись, как это было в кочевых империях Аттилы, Чингиза, Тимура,— после смерти владыки неизбежно возникали разрушающие централизацию центробежные силы, хотя и были законные наследники.
Эти — даже не заботятся о своих преемниках, словно рассчитывают быть бессмертными...
Ох, несдобровать им! Кончится тем, что каждый захочет всемирной власти и Левиафаны схватятся в смертельной борьбе...
Идя за конем, груженным бревнами, или пася стадо коров в лесу, — можно думать. Ничто не мешает. Я была не властна над своей физической судьбой и тем свободнее чувствовала свою мысль — я ни от кого и ни от чего не зависела.
Горели закаты на небесах, ярким пламенем сверкали звезды, и маленькая круглая луна катилась по небу.
А в сердце — песчинке красной, —
Тот же ответный звон
И звездным стадам безучастным
И слезным мольбам плотен...
А земля содрогалась от надвигающейся катастрофы:
В безумии дел
Твари страшное хлебово варят
Из собственных мертвых тел.
Гитлер бросил войска на Советский Союз.
Мы узнали об этом не сразу. Ведь нас держали, старались, во всяком случае, держать, в полной изоляции от всего мира.
Но через несколько дней пришел приказ: вывешивать газеты. Поняли, что слухи все равно просачиваются и лучше пресечь их газетами.
Вызвало это сообщение взрыв патриотизма? Не знаю. У меня было слишком сильно чувство, что родина моя — в лагерях.
Лагеря и тюрьмы вырастают
В необъятной родине моей,—
пели тихие голоса лагерную песню. Родина давно в плену: миллионы крестьян, рабочих, интеллигентов. И наиболее острым был вопрос: что теперь сделают с нами? Еще углубят репрессии или, наоборот, — последует послабление? Это встало особенно остро потому, что в мужской зоне Эль-генского лагеря начались аресты. Десятка два человек увезли в «дом Васькова», и все затихли в напряженном ожидании: прочтут или не прочтут на поверке о расстрелах?
Не прочли. Режим как будто ослабили, но окончивших сроки перестали освобождать. «Впредь до особого распоряжения». Многие досидели до конца войны. Часть была почему-то освобождена в 1942 году. Я попала в их число. И встало, когда приехала «на материк», воочию: страна в войне!
Я спешно пробиралась к матери в Курганскую область, боясь, что она умрет с голоду в своей ссылке. Доехала.
Отошли раздумья о мировых процессах в Человечестве XX века — надо было включаться в жизнь. Делать непосредственное, конкретное дело — преподавать в селе Чаша, находить место в жизни себе и семье, собирать ее. Не до раздумий в масштабе столетий, когда на тебе лежит ответственность за сегодняшний день!
А сегодняшний день приносил вести о стремительном шествии немцев по Белоруссии и вскоре о тех жестокостях, которые они там творят. Думаю, что это была величайшая ошибка Гитлера — допущение первых зверств. Расстрелы целых деревень из страха перед партизанами; глумление, уничтожение, жестокость врагов. Война из Государственной тем самым была превращена в Народную.
В ослепленном самомнении он не понимал, что можно убить льва, но нельзя предварительно его раздразнить. Он не понимал, что европейские масштабы не применимы к 1 /б части земного шара. И если страна поднимется целиком, она зальет своей массой, как заливает лава при извержении вулкана. Ни техникой, ни слепой дисциплиной военного кулака — стихии не одолеть!
С его, европейской, точки зрения, он хорошо подготовил победу: по его инспирации была снята и расстреляна вся верхушка командования войсками. По его требованию гнили в лагерях все его враги — бежавшие в Советский Союз коммунисты, члены III Интернационала. С его, немецкой, точки зрения, армия, лишенная образованного и талантливого командования,— уже не армия. Но он не понимал, что когда поднимается гигантский народ — у армии вырастают новые головы, да и не головой движется стихия.
Он плохо читал «Войну и мир», этот немецкий фюрер. И не понимал, что Толстой рассказал о разгроме Наполеона. Все шло как иллюстрация к описанию Толстого.
Я сидела в Чаше, урывая минутки между уроками, перечитывала «Войну и мир», которая, как фонарь, нет, как прожектор, освещала современные события. К 1943 году уже не было человека, который бы не чувствовал себя участником войны. А что можно сделать, если 200 миллионов человек сочтут необходимым выгнать врага из страны? Толстой очень хорошо показал, что из этого получается. И оно — получилось.
Но даже ошибка Гитлера не научила Сталина, что жестокость не может обеспечить победу — после войны снова настала эпоха репрессий. Те, кто остался жив, отбыв срок в лагерях, — были схвачены снова.
В темниковских лагерях я додумывала».
Арест
В библиотеке отделения общественных наук АН СССР 30 декабря 1947 года мне была вынесена приказом благодарность и выдана премия «за организацию выставки по фольклористике во время этнографического совещания». Был утвержден план и принята к печати составленная мною этнографическая библиография на 12 печатных листов. Целый день сотрудники пожимали мне руку, радуясь, что можно, казалось, считать забытыми мои прошлые беды и их последствия: арест 1937 года, пребывание в колымских лагерях, тревоги восстановления. Я весело отшучивалась от поздравлений.
К концу дня, собрав карточки, я диктовала проспект утвержденной работы машинистке. Толстая большая женщина — заведущая специальным отделом — быстро вошла в машбюро и, проходя, сказала: