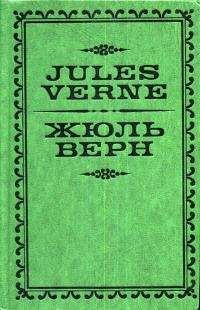Стефан Цвейг - Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник)
С нескрываемым гневом, зардевшись от волнения, жена блеснула на меня глазами, оставив его руку; я чувствовал с каким-то сладострастием, что она охотнее всего ударила бы меня. Но я продолжал стоять совершенно хладнокровно и небрежно и наблюдал с улыбкой, не помогая, как, задыхаясь, нагибался тучный муж и ползал у моих ног, подбирая свои талоны. Воротник у него был высоко задран, как перья у нахохлившейся курицы, широкая складка жира образовалась на красном затылке, он астматически сопел. Невольно при виде этого сопящего человека возникла у меня непристойная и тошнотворная мысль, я представил его себе в супружеском общении с женой и, почерпнув смелость в этом представлении, рассмеялся ей прямо в лицо, потешаясь над ее уже еле сдерживаемым гневом. Она стояла, теперь снова бледная, в нетерпении, с трудом владея собою, – наконец-то я все же вырвал у нее искреннее, подлинное чувство: ненависть, необузданный гнев! Охотнее всего я продлил бы эту злую сцену до бесконечности. С холодным сладострастием следил я за тем, как он мучается, подбирая талоны один за другим. Какой-то проказливый черт сидел у меня в глотке, все время хихикавший и подбивавший меня на смех, – приятнее всего мне было бы высмеять или пощекотать немного палкой эту мягкую ползавшую мясную тушу: я даже не помню, владела ли мною когда бы то ни было более сильная злоба, чем при этом искрометном торжестве над унижением нагло игравшей женщины.
Но вот несчастный собрал наконец все свои талоны, кроме одного, синего, который упал подальше и лежал на песке, как раз передо мной. Он одышливо поворачивался во все стороны, искал его своими близорукими глазами, – пенсне сдвинулось у него на самый кончик влажного от испарины носа, – и этой секундой воспользовалась моя каверзная злоба, чтобы продлить его забавное рвение: безвольно повинуясь шаловливости, достойной школьника, я быстро выставил ногу и наступил на талон, так что найти его он не мог бы, несмотря ни на какие усилия, пока на это не согласился бы я. И он искал, искал неутомимо, посапывая, все заново пересчитывая разноцветные карточки; ясно было, что одной – моей – он недосчитывался, и когда посреди возраставшего гула он снова хотел приняться за поиски, его жена, которая, судорожно закусив губы, избегала моих насмешливых взглядов, не смогла больше сдержать свое гневное нетерпение.
– Лайос! – властно крикнула она ему вдруг, и он встрепенулся, как лошадь при звуке трубы, еще раз ищущим взором окинул песок – у меня было такое чувство, точно спрятанный талон щекочет мне ступню, и я с трудом удержался от смеха, – потом послушно вернулся к жене, и та с какой-то строптивой поспешностью увлекла его прочь, в сутолоку, пенившуюся все сильнее.
Я продолжал стоять на месте, не испытывая никакого желания последовать за ними. Эпизод был для меня завершен; чувство эротического напряжения приятно разрядилось в веселое настроение; возбуждение совершенно покинуло меня, не оставив никаких следов, кроме здорового ощущения сытости, – утолена была моя внезапно прорвавшаяся злоба, – следа наглого, почти шаловливого удовлетворения тем, что проделка удалась.
Впереди тесно сгрудились люди, волнение уже начинало клокотать и напирать в виде мощной, грязной, черной волны на барьер, но я совсем не смотрел в ту сторону: я уже начинал скучать и подумывал о том, чтобы прогуляться по Криау или поехать обратно. Но едва лишь я непроизвольно ступил ногой вперед, как заметил синий талон, забытый на земле. Я поднял его и держал, теребя, в руке, не зная, как с ним поступить. Смутно возникла у меня мысль возвратить его Лайосу, что могло бы послужить превосходным поводом к знакомству с его женой; но я чувствовал, что она меня больше не интересует, что недолгий зной, которым пахнуло на меня это приключение, давно остужен моим старым равнодушием. Большего, чем этот борющийся, вызывающий обмен взглядами, я не требовал от супруги Лайоса, – толстяк был мне все же слишком противен, чтобы я мог делить ее тело с ним, – нервный трепет я вкусил и теперь ощущал уже только спокойное любопытство, приятную разрядку.
Стул находился все там же, покинутый и одинокий. Я удобно развалился на нем, закурил папиросу. Передо мною опять начиналось бушевание страстей, я даже не прислушивался: повторения меня не прельщали. Я спокойно смотрел на стлавшийся табачный дымок и думал о Меранском Гильфе, где я двумя месяцами раньше смотрел на брызжущий водопад. Это было совсем как здесь: тот же бурно возраставший гул, от которого не становилось ни тепло, ни холодно, то же бессмысленное звучание среди молчаливого синего пейзажа. Но в этот миг азарт достиг апогея, снова замелькала над черным людским прибоем пена зонтиков, шляп, криков, платков, снова слились голоса воедино, снова из гигантской пасти толпы вырвался – иначе только окрашенный – возглас. Я слышал одно имя, тысячекратно, с ликованием, звоном, экстазом, отчаянием провозглашаемое: «Кресси! Кресси! Кресси!» И снова, как натянутая струна, оно оборвалось (какую монотонность сообщает повторение даже страстям!). Заиграла музыка, толпа расползлась. Взметнулись доски с номерами победителей. Я безотчетно взглянул на них. На первом месте стояла семерка. Машинально посмотрел я на синий талон, оставшийся у меня в руке. На нем тоже стояла семерка.
Я невольно рассмеялся. Талон выиграл, этот славный Лайос поставил верно. Итак, я по злобе своей еще и обобрал толстого супруга! Сразу вернулось ко мне мое проказливое настроение, теперь меня интересовало, во сколько ему обошлось мое ревнивое вмешательство. В первый раз присмотрелся я к синей карточке: это был талон на двадцать крон, и Лайос поставил их в ординаре. Это могло составить приличную сумму. Без долгих размышлений, повинуясь только щекотанию любопытства, я дал торопливой толпе увлечь себя по направлению к кассе. Я вдвинут был в какую-то очередь, предъявил талон, и костлявые проворные руки человека, чье лицо мне даже не было видно за перегородкой, сунули мне на мраморную доску девять билетов по двадцать крон.
В этот миг, когда мне уплачены были деньги, настоящие деньги, синие кредитки, смех у меня замер в гортани. Сразу зашевелилось неприятное чувство. Невольно я отвел руки назад, чтобы не прикоснуться к чужим деньгам. Охотнее всего я оставил бы синие кредитки на доске, но за мною уже теснились люди, нетерпеливо ждавшие выигранных ими денег. Мне поэтому ничего иного не оставалось, как взять деньги – с омерзением в пальцах; словно синие языки огня, горели банкноты в руке, и я ее невольно отводил в сторону, как будто и рука, их взявшая, не мне принадлежала. Тотчас же я понял фатальность положения. Против моей воли шутка превратилась в нечто такое, что не должно было произойти с человеком приличным, с джентльменом, с офицером запаса, и я не решался перед самим собою назвать этот поступок надлежащим именем. Ибо это были не открытые, а коварством добытые, украденные деньги.
Вокруг меня жужжали и реяли голоса, люди теснились и толкались перед кассами. Я все еще стоял неподвижно, с отведенной в сторону рукой. Что было мне делать? Сначала возникла самая естественная мысль: разыскать выигравшего, извиниться и возвратить ему деньги. Но это было неосуществимо, особенно в присутствии того офицера. Я ведь был лейтенантом запаса и за такое признание немедленно поплатился бы чином; ибо, пусть бы я даже нашел талон, получение денег было некорректным поступком. Я подумывал также о том, не уступить ли мне инстинкту, щекотавшему мои пальцы, не смять ли и не выбросить ли банкноты, но и это на людях могло броситься кому-нибудь в глаза и породить подозрение. Но я ни за что, ни на мгновение не хотел оставлять у себя чужие деньги или же положить их в бумажник, чтобы позже подарить их кому-нибудь: привитое мне с детства, подобно привычке к чистому белью, чувство опрятности заставляло испытывать омерзение при каждом, пусть мимолетном, прикосновении к этим кредиткам. «Отделаться, только бы отделаться от этих денег, – лихорадочно шептал мне какой-то голос, – каким бы то ни было путем». Невольно я стал смотреть по сторонам, и, в то время как беспомощно высматривал, нет ли поблизости какого-нибудь укромного уголка, какой-нибудь скрытой возможности избавиться от денег, я заметил, что люди опять начали проталкиваться к кассам, но теперь уже с деньгами в руках. Это была прекрасная мысль. Швырнуть обратно деньги злому случаю, который мне подбросил их, сунуть их опять в прожорливую пасть, которая проглатывала в этот миг с той же жадностью новые ставки, серебро и банкноты, – да, это было правильно, это было правильно, это было подлинным освобождением.
Я рванулся с места, побежал туда, вклинился в очередь. Только два человека стояли еще передо мною, первый уже подошел к тотализатору, когда я вдруг сообразил, что не мог бы назвать лошадь, на которую ставлю эти деньги. Жадно прислушался я к раздававшимся вокруг меня словам.