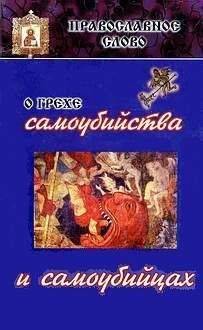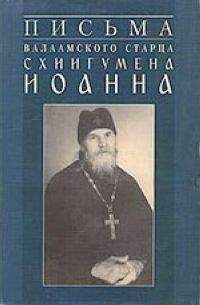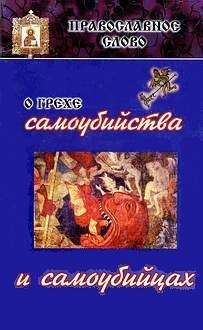Андрей Шляхов - Татьяна Пельтцер. Главная бабушка Советского Союза
Жили в бывшем купеческом особняке, приспособленном под актерское общежитие. Ивану Романовичу, как человеку семейному, дали отдельную комнату, а Тане – койку в бывшей хозяйской спальне. Там, где спали купец и его жена, теперь стояло шесть коек. Впрочем, Танина койка большей частью пустовала, потому что она почти всегда была в разъездах.
Спектакли ставились быстро, чуть ли не каждую неделю давали премьеры (город-то небольшой, за неделю все желающие успевали посмотреть спектакль), но репетировали добросовестно. Дело же не только в сроках, но и в старании. Благожелательное отношение публики и критиков окрыляло актеров, побуждало играть все лучше и лучше. Газетные рецензии неизменно были хвалебными и отличались друг от друга только градусом похвалы. Однажды в местной газете «Известия» персонально упомянули Таню. И пускай автор заметки переврал Танину фамилию, выбросив из нее «л» с мягким знаком, отчего она стала «Татьяной Петцер», зато назвал «подающей надежды» и «талантливой», а это дорогого стоило.
В Ейском Советском театре, кроме Аксюши, Таня играла Катерину в «Грозе», Ларису в «Бесприданнице», Лизу в «Детях Солнца», Надю во «Врагах», Сашу в «Иванове», Прачку в «Мистерии-Буфф», Софью в «Горе от ума», Мэри в исторической драме Анатолия Луначарского «Оливер Кромвель»… Здесь она наконец-то смогла сыграть Фаустину, которую у нее отобрали в Нахичевани. Напомним, что речь шла о передвижной труппе театра, где в основном была занята молодежь, среди которой Таня, имевшая в свои семнадцать восьмилетний сценический опыт, считалась стреляной птицей. Но все равно то был блестящий набор ролей, которого другой актрисе хватило бы на всю жизнь, на всю артистическую карьеру! Таня чувствовала себя невероятно счастливой. Она вышла из-под родительского крыла. Она – актриса! У нее замечательные роли! Ее знает публика! Ее хвалят в газетах! У нее много друзей (после недружелюбной Нахичевани это обстоятельство было особенно ценно)… Атмосфера в Ейском Советском театре была не просто хорошей, а замечательной, не дружеской, а прямо-таки родственной. Собрались отовсюду единомышленники и принялись с огромным энтузиазмом делать общее увлекательное дело, вот как все это выглядело. Вне всякого сомнения, в этом была большая заслуга и самого Раксанова. Недаром же говорится, что рыба тухнет с головы и что каков поп, таков и приход. Раксанов был во многом похож на Синельникова – такой же опытный, такой же умелый организатор, такой же приверженец дисциплины, – но вот навязывать актерам, подобно Синельникову, свою трактовку роли он избегал. Считал, что его дело – указать верное направление, а уж до образа актер должен доходить сам. Тане это очень нравилось. Это почти всем нравилось, за исключением ленивых бездарей, которые хотели, чтобы режиссер, образно говоря, разжевал бы трактовку и положил бы им в рот. Но такие у Раксанова не задерживались. Уходили, чувствуя, что выпадают из общего ряда, несмотря на то, что их никто не цукал. Цуканья как таковое в Ейском Советском театре не было и в помине. Короче говоря, это было во всех смыслах замечательное место. Актерский рай, о котором можно было только мечтать.
Если черная полоса сменяется белой, то хорошие новости сыплются одна за другой. В Ейске вдруг выяснилось, что никаких данных, свидетельствующих о развитии туберкулезного процесса, у шестнадцатилетнего Саши нет. Даже подозрения на это нет. Несколько местных врачей, осмотрев мальчика, уверенно говорили: «здоров». Когда Евгения Сергеевна начинала ссылаться на мнение их московских коллег, врачи улыбались, разводили руками и говорили, что предпочтительнее перестраховаться, нежели пропустить угрозу развития болезни. В период роста организм особенно подвержен различным болезням, мальчик был худенький, бледный, вот коллеги и посоветовали сменить климат. А сейчас, слава богу, все хорошо. Радуйтесь, товарищи родители!
Обрадовались все – и родители, и Таня, а в первую очередь сам Саша.
Саша мечтал учиться на инженера-механика. У него была врожденная страсть к этому делу. В свободное время он возился с железками и время от времени чем-то удивлял окружающих – то точной моделью ветряной мельницы, которая могла молоть, как настоящая, то какой-то самоходной телегой, которая заводилась ключом, то фанерным самолетиком, который совершал полеты дальностью в два десятка саженей. Одно время он мечтал изобрести вечный двигатель и очень расстроился, когда учитель математики объяснил ему невозможность подобного проекта. В Москве, в отличие от Ейска, Саше было где учиться.
Таня тоже стремилась в Москву. Ей, уже крепко стоящей на ногах, было тесновато в провинциальном передвижном театре. Пусть коллектив замечательный, пусть зрители любят, пусть много хороших ролей, но все равно это провинция и настоящего простора для развития таланта здесь, увы, нет. В Москве – другое дело. Была у Тани заветная мечта – пойти по отцовским стопам и послужить у Корша. То есть уже не у Корша, а в театре с новым, неуклюжим названием: «Третий театр РСФСР». Третий театр был театром комедии, т. е. продолжал традиции Корша, который говорил о себе так: «Моя задача – театр комедии с драматическим или комическим оттенком». К комедии Таня, не без основания считавшая себя универсальной актрисой, мастерицей на все руки, тяготела особенно. С ее легким веселым бойким характером было сподручнее смеяться и веселиться, нежели стенать, заламывая руки: «Какая я жалкая, несчастная. Кабы теперь меня убил кто-нибудь… Как хорошо умереть…»
Евгения Сергеевна опасалась, что рано или поздно они могут остаться без своего московского жилья. Пускай Пельтцеры и числились временно выбывшими с сохранением права на жилплощадь, но мало ли что может произойти в их отсутствие. Сошлются на то, что площадь простаивает пустой, в то время как квартирный вопрос становится все острее и острее – и выпишут на нее ордер кому-нибудь другому. Или соседи самовольно собьют замки и займут комнаты по праву того, кому нужнее. Такое в то время часто случалось. Ходи потом, обивай пороги, добивайся правды, и неизвестно, добьешься ли еще. А если и добьешься, то в лучшем случае – пустых стен. Обстановку уж точно растащат дорогие соседи.
Ивану Романовичу тоже хотелось вернуться в Москву, к Коршу, но было немного неловко перед Раксановым. Только приехали, едва-едва освоились и уезжать? Это выглядело как предательство по отношению к старому товарищу, протянувшего Ивану Романовичу руку помощи в тяжелый жизненный момент. Но Раксанов все понял правильно. Он порадовался за Сашу и сказал, что не возражает против возвращения Пельтцеров в Москву, только просит доиграть сезон. Иван Романович, счастливый от того, что все так хорошо устроилось, конечно же согласился. Более того, за оставшееся время он подготовил себе замену – молодого актера Ефима Островского, имевшего большие способности к режиссуре. Впоследствии, уже в тридцатые годы, Островский возглавил театр, который к тому времени был переименован в Ейский городской драматический театр.
В Ейске Таня впервые в жизни влюбилась по-настоящему. В коллегу, актера Александра Яковлева, высокого статного белокурого красавца. Яковлев был на четыре года старше Тани. Сценический опыт у него был не такой большой, но вот жизненный… Яковлев воевал в Первой конной армии Буденного. Он был единственным участником Гражданской войны в передвижной труппе театра и невероятно гордился как своим героическим прошлым, так и своей ловкостью. Во время поездок по станицам Яковлев любил подойти к станичникам, упражнявшимся в рубке (этому занятию казаки на досуге предавались очень часто) и с показным смущением попросить одолжить ему шашку. Казаки переглядывались, предвкушая, как сейчас они посмеются над городским неумехой, и охотно давали шашку, с которой Яковлев, как и положено актеру, разыгрывал целую сцену. Сначала осторожно пробовал остроту лезвия большим пальцем, чего ни один понимающий человек сроду делать не станет, и восхищенно цокал языком – ой, какая острая, как бы не порезаться. Затем он производил пару-тройку неуклюжих взмахов, вынуждая собравшихся на потеху казаков расступиться, после чего в мгновение преображался и молниеносными ударами рубил лозу, если перед ним была лоза, или же нарезал ровными аккуратными пластами глиняную «голову». Сделав дело, Яковлев спокойно возвращал шашку онемевшему от удивления владельцу, говорил «хороша сабелька» и уходил, провожаемый недоуменными взглядами станичников – что это было?
Роман был бурным и, как все бурные романы, длился не очень долго. Чувства у обоих начали угасать примерно в одно и то же время, потому расстались друзьями.
– Семья из двух актеров – это же ужас что такое, – говорила потом Евгения Сергеевна, не одобрявшая Танинного выбора, но и опасавшаяся высказывать свое мнение до той поры, пока роман был в разгаре. – Вот сама представь, что бы было, если бы твой папаша женился бы на актрисе? Вы росли бы, как беспризорники, голодные, холодные, раздетые… Разве актеру есть до чего-то дела, кроме театра? Скажите спасибо мне за то, что у вас есть дом и все, чему положено в нем быть!