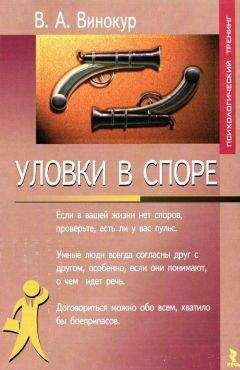Свободин А.П. - Зримое время
Он провожал черной лестницей Мишу, думал спасти его от шпика. И не спас. Мишу забрали. На его глазах забрали. И, что самое невыносимое, самая мерзость и есть, — на улице! Соблюли приличие, не ворвались в квартиру известного ученого. В полицейском управлении приказали: берите на улице.
Наступил 1917-й.
И новая власть врывается в квартиру! Не посмотрев на то, что это квартира знаменитого ученого. Правда, матросу потом попало за незаконное производство обыска, но могло и не попасть. И не в этом дело, можно было этой авторской "подушечки" и не подкладывать. Шла революция. Петроград голодал. Искали хлеб.
Да, этот Полежаев не в восторге от обыска (а приходилось видеть спектакли, где старый ученый лил по этому поводу чуть ли не слезы радости!). Ему отвратителен обыск. Радости он не испытывает. И ни в какие умилительные контакты с обыскивающими не вступает. Он из тех великих русских интеллигентов, которые, любя народ, не умели заискивать перед ним. И не хотели. Они были адептами святой идеи — поднять народ до себя. Пришедшие с обыском почувствовали, что хозяин квартиры необычен. Духовная сила, излучавшаяся этим стариком, все расставила по местам. Перед матросом был не крупный чин — крупная личность. Матрос это понял сразу и зауважал старика. Обыск между тем продолжался в своих обыденно неприглядных формах. Но между этими двумя людьми уже установился тот духовный контакт, что выше всякого братания. А запанибрата с матросом профессор в этом спектакле так и не стал.
Милая Мария Львовна, как всегда, восприняла мысли Дмитрия Илларионовича токами своего сердца. Остальные остались на уровне житейского явления. Так и должно было быть, потому что профессор крупнее всех. На десять голов выше! Присутствие человека огромного масштаба — вот что удалось в спектакле.
Они, все присутствующие здесь, переживали обыск. Это неприятно. Он переживал с ними. Но думал он примерно так: "Я всегда предвидел, что когда народ возьмет власть в свои руки, это будет совсем в неожиданных формах, совсем не так, как думали мы, прокуроры и адвокаты народа. Так оно и вышло".
Это писал А.Ф.Кони в письме к А.В.Луначарскому, отдавая себя на службу этому народу.
Да, эти люди не принимали бессвязные речи и грубость забитых мужиков за тот источник нравственного здоровья, к которому "интеллигентам припадать надо", дабы очиститься от скверны, но они и не шарахнулись от этих мужиков, когда, одетые в солдатские и матросские шинели, мужики вышли на улицы, нарушив все еще вчера существовавшие общественные границы и связи.
Он принял революцию, пошел с ней — таков итог его жизни. Он никому не разрешил продумать за себя свое поведение в дни исторического поворота. Если общее течение — настроения и поступки его ученых коллег — не совпадает с его решением, он пойдет против течения! Пойдет один, но пойдет. Мужество Полежаева не в том, что он присоединился к новому течению жизни — оно для него не гром с ясного неба, оно, это течение, давно им ожидалось, мужество Полежаева в том, что он пошел против старого течения, он решился на одиночество в том обществе, в котором прожил жизнь, это придало трагическую окраску концу его жизни. Но он пошел на это, ибо в нем живет лютеровское: "Здесь я стою и не могу иначе!"
Его все бросили, на именины никто не придет... огромная гулкая квартира... пустая вешалка…, молчит телефон. Ворвались студенты, осудили, пристыженные — смолкли, испугавшись его непоколебимого чувства собственного достоинства, ощутив свою мелковатость рядом с ним. Потом был этот скандал с Викентием, с рукописью книги. Нет, как он мог! Издавать за границей, да нет, вообще решать за него, что делать с его книгой! Кто-то другой решает за него — этого Полежаев пережить не может.
Потом Викентий упал на колени, каялся, кажется, потом ушел. Грустно: уходят люди, уходят люди...
Атмосфера сгущающегося одиночества к концу первого акта спектакля становится преобладающей. Она начинает физически давить на зрительный зал.
Вот все ушли. Все, все! Они одни с Мусей. "Я подарил себе одиночество!" — говорит Дима, сидя на другом конце накрытого большого стола. Но он еще не сдался. "Я принесу тебе шаль!" — громко говорит он, почувствовав, что Марии Львовне зябко. — Не возражай, — кричит он, — не возражай, я принесу тебе шаль!". И слово "шаль" звучит, как слово "знамя". "Я держу свое знамя! Я никому не дам вырвать его из моих старых рук", — вот что звучит в этом крике.
А потом, когда сумерки поглотят их квартиру и настанет ночная тишина, совсем уж нестерпимая тишина, два старика сядут за рояль, и Дмитрий Илларионович, Дима, звонко, как сорок лет назад, изящно, с редкой музыкальностью запоет:
Le gгеnаdiег е’tait bel hommе,
Наггivаit dе Nuгеnberg.
Lе ргinсеsse аггitаit de Rome –
Еt dе’barguаit du chemin d’fer…
(Был гренадер мужчина-прима.
Из Нюренберга ехал он.
Княгиня только что из Рима —
И вот на станции вагон...
Мажорные куплеты из "Мадемуазель Нитуш". И это станет последней, самой трагической нотой одиночества. И самой драматической сценой спектакля. В зрительном зале заплачут.
Потом тихо, открыв дверь своим ключом, войдет Миша. Старики примут его появление за знамение, поймут, что выстояли...
Как это сделано?
Какими средствами театр добивается изменения всей тональности текста произведения более чем тридцатилетней давности, в чем заключена его культура работы над пьесой?
Возьмите экземпляр 1937 года, когда написана была "Беспокойная старость", сравните его с экземпляром, по которому сегодня идет спектакль. Меняется время, меняемся мы... Становится нагляден необратимый процесс общественного мышления. БДТ не прокламировал новаторства в этой постановке. (Как и вообще его не прокламирует.) Но как изменилась пьеса! В ней совсем не много переписано, важно, а каких направлениях шла работа автора и театра.
Жанр будущего спектакля был определен Г.Товстоноговым как трагедия. Неторопливая внешне трагедия крупнейшего ума и характера. По мере того как понимание Полежаевым великого слома истории возрастает, понимание Полежаева людьми его круга катастрофически падает. Отсюда трагедия и житейского одиночества, и разрыва со своей средой.
Трагедия старости. Тело отказывает в момент, когда дух почувствовал возможность новой жизни, когда научные мечты могут осуществиться. А Дмитрию Илларионовичу, как и реальному прообразу его — Тимирязеву, так мало осталось жить.
Поэтому все, что не содействовало появлению трагедийного образа, а, напротив, "работало" на образ бодренького эксцентричного старичка, убиралось. Например, то, что могло способствовать прочтению пьесы зрителем как "отрицающей" интеллигенцию вообще. Если раньше ученик профессоре Воробьев был по преимуществу мелок и ничтожен, был "врагом", "разоблачался" еще до начала действия, то теперь театр рассматривал Воробьева как фигуру драматическую. Так в судьбе ученого зазвучал исполненный драматизма мотив потери людей. С другой стороны, была исключена сусальность в отношении профессора к матросу. Понимание матросом крупности, необыкновенности личности ученого теперь оказывалось важнее театру, нежели этакое "приседание" старого ученого перед представителем народа. Отношение матроса к профессору в спектакле ВДТ, как оказалось, выше характеризует представителя революционного народа, нежели прежняя расстановка сил. И исторически правдивей.
Главное внимание в работе сосредоточилось, конечно, на фигуре Полежаева. Надо было найти спокойное, мудрое выражение его трагедии. И его прозрения. Надо было сделать образ документальнее. Так появились в пьесе тексты подлинной статьи К.Тимирязева "Красное знамя" и других его произведений из книги "Наука и демократия", первого тома собрания сочинений. Перед уходящим на фронт отрядом ученый произносит теперь новую речь, фразеология и смысл ее усложнились.
Еще изменение, едва ли не важнейшее для внутреннего ритма существования ученого в спектакле. Раньше он заканчивал свою книгу на глазах зрителя. Теперь он завершил ее до начала пьесы и живет в часы раздумий, как бы "подводя итоги", но революция возбуждает в нем мысли о будущем.
Появились новые реплики, слова, повороты сцен. Вот пример. Матрос стрелял в спекулянта. Полежаев не восхищается этим, как прежде, а тяжело говорит: "Страшное время, голодное время..." Вот деталь: в старом тексте профессор подходил к телефону (это было в день его одиноких именин), брал трубку: "Не работает...". Но страшнее одиночество, когда телефон работает, а никто не звонит. И частица "не" убрана.
В драматическом споре с Воробьевым, где дается политическая оценка происходящего, Полежаев бросает теперь своему ученику реплику, выражающую его душевное состояние и одновременно его кредо: "Не суетитесь перед историей!" — вот как это звучит, — слушайте музыку ее, слышите?
Вся жизнь Полежаева логично привела его к новому пониманию происходящих событий. Это понимание он выразил в своей статье. Какой она будет, зритель еще не знает, но она не внезапный шок, а последняя точка в книге мыслей, его собственных мыслей, Но это и высшая точка его личной трагедии. И новая сцена. Под инфернальные выкрики в его адрес (в странном, нереальном свете — в спектакле) одинокий ученый идет длинной и узкой дорогой... в пустоте. Начальные выкрики газетчиков превращаются в заклинания, в заклятья. Может быть, этот зловещий хор звучит лишь в его мыслях. Эпизод — "наплыв" современного кинематографа. Театральная реальность возвращается, лишь когда Дмитрий Илларионович, желая успокоить Марию Львовну, разыгрывает ее из-за дверей квартиры и, смешно копируя не то крики газетчиков, не то произношение петербургской сплетницы, произносит: "Профессор-шпион!"