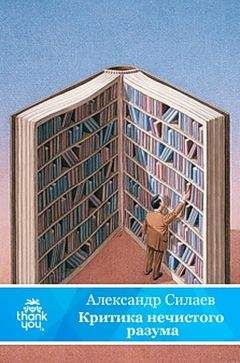Александр Кузьменков - Группа продленного дня
Ей было двадцать восемь, и ее жизнь состояла из романо-германского отделения иняза, десяти лет брака с алкоголиком, развода, шести беременностей и четырех абортов. Ее первый сын родился анацефалом и потому не протянул и дня; второму, Ване было восемь, и он был одутловат, непроницаемо молчалив и прожорлив. Дни напролет он просиживал на краю пустой песочницы, не мигая, рассматривал что-то, неразличимое для остальных, и часто, по-птичьи наклонял голову к прянику, зажатому в кулаке. Его мать тем временем без конца ворошила страницы вдоль и поперек исчерканного «Вертера» и мучительно нежила себя воображением томного тевтонского мачо.
На прощание она сказала: я понимаю, просто встретились два одиночества, да? Он не стал возражать, хотя бисквитно-кремовая цитата была совсем не к месту. Какое, на хер, одиночество? – не одиночество это было, но желание хотя бы на полчаса избыть окружающую мерзость запустения, и все было попусту.
В одежде Лена казалась подростком, но под одеждой обитало тело бывшей женщины, утомленное ненужным умножением рода. Чехол из дряблой, тряпичной кожи существовал на нем отдельно от мяса и костей и при каждом движении собирался в складки по своему усмотрению. Увядшие острые груди козьими сосцами стекали на сморщенный, как печеное яблоко, живот. Добывать постное удовольствие из этого усталого, скудного и скучного тела было тягостной работой, тем паче, манда, дважды разодранная детьми алкоголика, напоминала разношенный башмак. Лена, сознавая это, кротко следовала прихотям Карпова – до крови скребла лобок тупым ленинградским лезвием, старательно и неуклюже коверкала себя в скрученных и переломленных позах, но тут наотрез отказалась, спрятав глаза в чайную чашку: Бог с тобой, Сережа, разве можно, ведь это извращение… Он пожал плечами: все относительно, подробности у Гете – habe ich als Mädchen sie satt, dient es als Knabe mir noch. Лена ринулась вон из опасной зоны: ты что, немецкий знаешь? откуда такое произношение?
Мальчиком она стала через неделю. Притиснутая ничком к дивану, она не противилась, лишь обреченно скулила слабым щенячьим голосом: я боюсь, боюсь! – но, ощутив, как чужая напряженная плоть жестоко протискивается куда не след, зачастила громко и отрывисто: я-блядь-я-дрянь-я-блядь-я-блядь-я-дря… ой!.. дрянь. Карпов зажал ей рот: соседка, радея о ночном покое, принялась долбить кулаком в стену. Штукатурка, потревоженная стуком, тонкой струйкой посыпалась на спину. Sturm-und-Drang захлебнулся тошнотворным отвращением, и Карпов зашарил по полу в поисках сигарет. Сзади шевелились длинные мокрые всхлипы: прости, пожалуйста, я привыкну, правда… Если эта лярва еще хоть слово вякнет, я ей пизды дам, уныло решил он. Но не дал.
Карпов вернулся к себе. Пустот на синем игровом поле стало заметно больше. Студия наполнилась настойчивой кошачьей истерикой. Вам достается «Кот в мешке», вопрос надо отдать – кому? Жанна, вестимо, гнобила опасного конкурента: конечно, Антону. Антон, играем с вами, тема – «Возраст»; этот случай убедил его в наступлении старости. Н-ну, промычал Антон, контролеры в автобусе попросили у него не билет, а э-э… пенсионное удостоверение.
Открытием это не стало: старость давно пометила лицо седой щетиной, синими прожилками на крыльях носа, тяжелым ожерелком второго подбородка. Карпов встретил свой вечер без сожалений: знамо дело, не мальчик, – сорок четыре. Удручало другое: он ждал от старости тихого умиротворения, неторопливой мудрости, но день за днем спотыкался о полудохлую, беззубую злобу, да и та на глазах вырождалась в брюзгливое раздражение. Так-то вот, и тут паренька наебали.
Поздравляю, улыбнулся Кулешов, вы наконец-то выбрались из минуса, играйте, Антон. «Кама Сутра», э-э… за шестьсот, сонно произнес тот. Впервые он увидел голую женщину именно там. Программист задумчиво жевал толстыми пельменными губами. Паузу оборвал писк таймера. Ну?! – подстегнул Кулешов: раз… два… Антон предположил: на пляже? Мимо кассы, придурок, презрительно хмыкнул Карпов. Кулешов съязвил в унисон: по-вашему, в Советском Союзе были нудистские пляжи? дело было в процедурном кабинете кожвендиспансера. К губам Карпова приклеилась кривая, жалкая усмешка.
Потолок читального зала был по-церковному высок; красный с золотом иконостас книжных корешков внушал благоговейную робость – даже сейчас. Он с болезненным любопытством выхватывал из россыпи петита нужное: фурункул (чирей) – острое гнойно-некротическое воспаление волосяного мешочка и окружающей соединительной ткани, вызываемое гноеродными бактериями, гл. обр. стафилококком; возникновению ф. способствуют загрязнение и микротравмы кожи, повышенное пото- и салоотделение, нарушения обмена веществ и т.п. – и проклинал ебаные гноеродные бактерии, сраное пототделение и бесстрастный тон справочника. Книга продолжала со стерильным равнодушием: плотный, болезненный узел багрово-красного цвета, в центре которого через несколько дней появляется размягчение, вскрывается с выделением большего или меньшего количества гноя, – полная хуйня, как оказалось. Ни один из чирьев, усеявших нос и щеки, и не думал вскрываться. Он постоянно пробовал горячие бугорки пальцами в поисках обещанного размягчения, а потом, морщась от боли, выдавливал их. Тонкая, глянцевая пленка воспаленной кожи лопалась с еле слышным, призрачным треском, и густой, изжелта-белый гной брызгал на зеркало. Краснота пятнала лицо еще недели полторы. Отец, глядя на него, выпускал на волю засаленный смешок: парня-то женить пора, и мать в тон ему отвечала: женилка не выросла, и врачиха в диспансере недовольно кривилась: зачем ты их давишь, ведь не маленький уже, должен понимать… После уроков он тащил свои болячки в процедурный кабинет, низкий сводчатый цоколь старинного дома с полукружьями окон, утонувших в серой овчине февральских сугробов. Дожидаясь, когда его с повязкой на глазах усадят под кварц, он рассматривал блеклые таблицы с выцветшими сифилитическими гуммами и думал: кому-то еще хуже. Впрочем, без особого оптимизма.
Следующий, проходим! – распорядилась медсестра сварливым рыночным голосом, но сама где-то замешкалась. Закуток с кварцевыми лампами делила пополам застиранная простыня, клейменная выцветшим больничным штампом, край ее предательски завернулся и позволил видеть полукруглый никелированный колпак над кушеткой и литое, резиновое тело, от плеч до живота покрытое бугристой чешуей шелушащихся струпьев. Вошедшая медсестра, недоверчиво глянув на него, вернула простыне целомудрие, умело соорудила из марли и двух ватных комочков повязку, но напрасно, – он и с завязанными глазами видел спелые ягоды темно-коричневых сосков, окруженных розовой, с белым налетом коростой, и курчавый клок черной, полуночной шерсти, с двух сторон стиснутый молочными овалами бедер. Все его естество скрутилось в корабельный канат, туго натянутый якорем вздыбленного, раскаленного хуя. Сучка паршивая, повторял он про себя, содрогаясь от гадливого желания, блядь паршивая, разложила тут свою пиздень.
Унитаз в больничном сортире был засыпан подмокшей хлоркой, расхлябанный шпингалет упрямо не хотел запираться. Пуговица отлетела от штанов и запрыгала по выщербленному кафелю с сухим костяным стуком, пальцы нащупали твердый кусок пылающего мяса. Вот так тебя, блядь паршивая. Увесистый, пластилиново плотный сгусток белесой слизи с тяжелым шлепком упал в хлорку. Вот так. Он потянул допотопную цепочку с треснувшей фаянсовой ручкой, бачок отозвался хлюпающим, насморочным звуком. У дверей туалета дожидалась техничка с ведром грязной воды.
Жанна нацелилась на «Кушать подано» за шестьсот. Этот продукт был постоянной причиной скандалов с родителями. Жирное мясо, ответила Жанна.
Мать засиделась на педсовете, и ужинать пришлось вдвоем с отцом. Борщ был съеден, на дне тарелки остался кусок желтого, блестящего жира с прилипшими мясными волокнами, – что доброго на талоны возьмешь. Ну? спросил отец выжидательно. Я-не-мо-гу, выдавил он по слогам. Отцовские глаза заволокла дымная муть, голос сорвался в надсадный и яростный хрип: не можешь? мы в оккупации кору сосновую жрали, а ты… Жесткая пятерня пригнула его голову к тарелке: а ну, давай сейчас же. Он поддел жир ложкой и, не жуя, кое-как втиснул склизкий комок в глотку. Нутро тут же вывернулось наизнанку, – он даже не успел почувствовать тошноты, – и в тарелку хлынула густая, красная от помидоров и моркови блевота. По щекам потекли бессильные слезы. Отец поднялся из-за стола и сказал: прибери за собой, и с брезгливым присвистом добавил сквозь зубы: с-слякоть.
«Кама Сутра» за восемьсот, по-сорочьи протрещала Жанна. На экране завертелся скрипичный ключ, и грянули погребальные, профундовые аккорды фортепиано; строчка из этого популярного романса положила конец его первой любви. Скороговорка Жанны превратила галантерейные вирши Вейнберга в считалку: он-был-ти-ту-ляр-ный-со-вет-ник… Поскольку название романса прозвучало, я принимаю ваш ответ, сказал Кулешов.