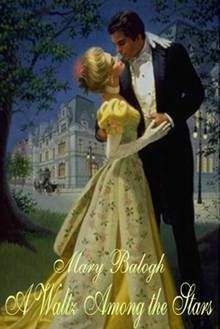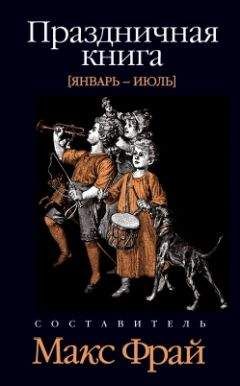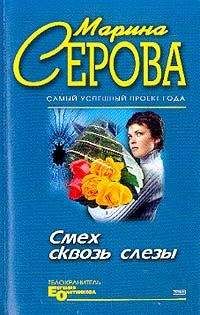Слава Бродский - Страницы Миллбурнского клуба, 2
А вы знаете, что НА?
А вы знаете, что НЕ?
А вы знаете что БЕ?
Что на небе
Вместо солнца
Скоро будет колесо?
Скоро будет золотое
Не тарелка,
Не лепешка, –
А большое колесо! –
А Заболоцкому вообще не требовалось напрягаться. Просто слегка упростить свой натурфилософский взгляд на мир:
Каждый день на косогоре я
Пропадаю, милый друг.
Вешних дней лаборатория
Расположена вокруг.
В каждом маленьком растеньице,
Словно в колбочке живой,
Влага солнечная пенится
И кипит сама собой.
Эти колбочки исследовав,
Словно химик или врач,
В длинных перьях фиолетовых
По дороге ходит грач.
Он штудирует внимательно
По тетрадке свой урок
И больших червей питательных
Собирает детям впрок.
Что же касается Олейникова, то за всю жизнь ему удалось опубликовать лишь три «взрослых» стиха. Так что вся его официальная продукция состояла из книжек для детей, где он представлял себя так:
Кто я такой?
Вопрос нелепый!
Я – верховой
Макар Свирепый.
Аресты
Приближались 30-е годы. Централизация и нарастание нетерпимости происходили параллельно.
Еще в 1928 году было возможно открыть персональную выставку Малевича в Третьяковке, к 30-летию творческой деятельности. Печатью, впрочем, она была замолчана. В скором времени, – в 1930 году, Малевич был арестован как германский шпион и провел несколько месяцев в тюрьме.
Выставка Филонова, развернутая Пуниным и Аникеевой, сотрудницей музея и автором каталога выставки, в Русском Музее в 1929 году простояла в закрытых залах год и так и не была открыта.
Последним «ура» для Филонова и Малевича была выставка «Художники РСФСР за 15 лет» в том же Русском Музее в 1932 году. Каждому было предоставлено по отдельному залу. Филонов выставил 85 работ. Годом позже эта же выставка открылась в Москве, но Малевича туда уже не пустили.
Готовилось историческое постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Только в области изобразительного искусства необходимо было распустить около пятидесяти объединений и примерно столько же литературных групп (только в Москве их было более тридцати). В условиях планируемой «перестройки» проведение превентивных арестов представлялось логической мерой.
Хармс, Введенский и Туфанов были арестованы 10 декабря 1931 года. Бахтерев – немного позднее, 14 декабря. По одной из версий, причиной ареста Введенского был сказанный им в доме художницы Е. В. Сафоновой тост за покойного императора Николая Второго. Введенский говорил, что при наследственной власти у ее кормила случайно может оказаться и порядочный человек, в то время как народная власть это исключает.
Побочным эффектом арестов было то, что Нюра Ивантер, вторая жена Введенского, сожгла со страху все его рукописи, какие могла найти, за что Яков Друскин прозвал ее «Геростратом XX века»
Не так уж важно, что послужило толчком: показания режиссера-авангардиста Игоря Терентьева, арестованного незадолго до этого (расстрелян в 1937-м), доносы штатных осведомителей или Ираклия Андронникова, арестованного вместе с ними, но выпущенного за недостатком улик. Достаточно было репутации обэриутов, уже сложившейся к этому времени, да тех разговоров, что велись в компании, собиравшейся у Сафоновой и у ассистента Петроградского университета Петра Петровича Калашникова. П. П. Калашников был своего рода держателем богемного салона. У него собирались литераторы и художники. Писатель Л. Пантелеев вспоминал: «... Д.И. [Хармс] водил меня к своему приятелю Калашникову. ...Это был русский интеллигент, пожилой, как нам казалось (лет за 40, вероятно)... В комнате же у него горели многоцветные лампады, под статуэткой Будды стояла фисгармония, и Калашников на ней играл». Короче, «не наш» был этот Калашников, за что и был арестован по тому же делу (получил три года, отбывал в Свирских концлагерях).
Похоже, что «сверхзадачей» арестов было собрать материал на руководство Детгиза – Маршака, Олейникова и других – так сказать, впрок. Показательно, что несмотря на то, что такие «компроматы» были получены, новых арестов не было. Зато уровень страха в среде ленинградской интеллигенции был поднят, и этот результат был достигнут малой кровью.
Все же следствие заняло почти четыре месяца. В Москве поступили экономичней: друг Пастернака, «лефовец» Владимир Силлов был арестован в 1930 году примерно с той же формулировкой, что и обэриуты, и расстрелян через три дня.
Протоколы допросов Введенского и Хармса – интересные документы. Трудно определить, до какой степени они являются творением следователей Алексея Бузникова и Лазаря Когана и до какой – самих подследственных. Однако мало какие критические статьи излагают особенности их творчества с такой ясностью.
Протокол первого допроса Хармса содержит довольно простодушное заявление:
«Я работаю в области литературы. Я человек, политически не мыслящий, но по вопросу, близкому мне: вопросу о литературе. [sic] Заявляю, что я не согласен с политикой Советской власти в области литературы и желаю, в противовес существующим на сей счет правительственным мероприятиям, свободы печати как для своего творчества, так и для литературного творчества близких мне по духу литераторов, составляющих вместе со мной единую литературную группу».
По поводу детского творчества сказано следующее:
«К наиболее бессмысленным своим стихам, как, напр., стихотворение "О Топорышкине", которые ввиду крайней своей бессмыслицы были осмеяны даже советской юмористической прессой, я относился весьма хорошо, расценивая их как произведения качественно превосходные, и сознание, что они неразрывно связаны с моими непечатающимися заумными произведениями, приносило мне большое внутреннее удовлетворение».
Протокол Введенского по стилю соответствует сумрачному тону его поэзии:
«Основным лейтмотивом наших политических бесед (с Хармсом) была наша обреченность в современных советских условиях. Мы хорошо понимали, что ненавистные нам советские порядки нелегко сломать, что они развиваются и укрепляются помимо нашей и иной, враждебной им, воли, что мы представляем собой людей обреченных».
Введенский каялся с первой страницы, Хармс – со второго допроса, но это дело не меняло. Похоже, Бузников надеялся сделать себе имя, собрав материал на более крупных птиц. В частности, в протоколах Введенского Маршак упоминается в качестве пособника и подстрекателя преступной деятельности молодых писателей. Олейников называется поклонником Троцкого. Однако Маршака, а с ним и других, было велено не трогать. А сама молодежь не представляла большого интереса ни для Бузникова, ни для начальства.
Бахтерев пишет о своем тюремном опыте прямо-таки элегически. Свежее белье на койке, хорошее питание. Единственная проблема – нечего читать кроме газеты, которую он со скуки зачитал до дыр. Ему в момент ареста было 23 года. Я не думаю, что остальные разделяли его мнение.
Туфанов, которого и притянули в основном как учителя своих учеников, получил 5 лет лагерей и был конченым человеком. По крайней мере, сел за «взрослые стихи», за поэму «Ушкуйники» где писал:
«Погляжу с коня на паздерник, как пазгает в подзыбице Русь»
Мог ли автор точнее выразить свое отношение к Советской власти? Здесь, как и в зауми, Туфанов выступает как мастер звукового образа.
В тюрьме их продержали с декабря по март 1932-го, Хармса – фактически до июня. Как «главарь» ОБЭРИУ он получил три года концлагерей – своего рода признание. Но благодаря хлопотам отца, бывшего народовольца, его дело было пересмотрено. Он получил «минус 12» (высылку с запретом въезда в двенадцать крупных городов) и поехал к Введенскому в Курск.
Жизнь после ареста
Возвращение их в Ленинград – это фарс со счастливым концом. Сначала Введенский потребовал перевода в Вологду, а поскольку добраться до Вологды можно было только через Ленинград, то он и поехал туда, и вскоре сагитировал Хармса повторить этот трюк. Хармс вернулся в Ленинград в октябре. Но ни тот, ни другой в Вологду не спешили. Начались хлопоты по смягчению приговора. Хармсу помог следователь Лазарь Коган, который их допрашивал вместе с Бузниковым. Интересно, что их пути пресеклись еще до ареста, в 1929 году, когда под удар попала семья первой жены Хармса Эстер Русаковой (погибла в лагере в 1938 году). Имя Когана упомянуто в абсурдном стихе «Перферация» 1930 года, где эти строчки –единственные понятные любому:
в этой комнате Коган
под столом держал наган
Так что и Хармс завел приятеля в ГПУ, как того требовала мода времени. Оба курили трубки. К 38 году Бузников был посажен, но уцелел, а Коган был расстрелян в 39-м.
Итак, Хармс добился своего: ему было разрешено остаться в Ленинграде. Введенский же оставался в ссылке в Борисоглебске до конца 1933 года.