Неизвестно - Кублановский Год за год
Ездил из Переделкина в Москву в автобусе с немытыми стеклами. Рядом сидела девушка и читала молитвослов. И то и другое в Европе совершенно исключено.
Младшего брата Константина Батюшкова звали Помпей. Имя, очевидно, предопределило профессию: археолог.
Непостижимым для меня образом Пастернак порою не видит, о чем пишет. Ветер раскачивает сосны,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
Но ведь ежели парусники раскачиваются, значит, не гладь, а волны, в бухте волнение, и немалое.
Теплый, поддающийся, кажется, пальцам замес стихов Пастернака. Это тебе не “окаменения” Тарковского, зрелой Ахматовой, тем более, Липкина.
Сейчас по ТВ (канал “Культура”, Феликс Разумовский — талантливый истор. рассказчик): “Крестьяне обещали своему добродетелю…” Конечно, он имел в виду — благодетелю. Добродетель — не человек, а качество, правда?
27 июля, воскресенье.
Вдруг прочитал и вздрогнул — прямо про наши дни предсказание: “Какое будет еще унижение, как нагло будут еще себя вести люди. Пользоваться богатствами одной страны и проживать деньги в другой (11.IV.1918)” (Вера Судейкина, “Дневник”. М., 2006).
Так и поступают нынче наши “капиталисты”. Теперь — после чтения ее записей — я подойду к ее могиле на Сан-Микеле с новым чувством (а прежде — равнодушно скользил по могильной плите глазами, сосредотачиваясь на Стравинском всегда).
Как изменились, однако, времена! Уже с твердым чувством знаю, что побываю еще в Венеции. Половину жизни недостижимое — теперь под рукой. Но тревога за Россию с той поры почему-то только усугубилась.
1 августа, пятница.
Я долгое время не мог полюбить Тютчева за… выспреннюю эмблематичность его творчества (сам я не реалист, но предметник). См. замечательно тонкое соображение Лотмана: “Именно потому, что стрекоза у Тютчева — не насекомое, а знак всеобщей жизни и синонимична другим ее проявлениям, О. Мандельштам мог избрать этот, один лишь раз употребленный Тютчевым образ символом всего его творчества: „Дайте Тютчеву стрекозу, / Догадайтесь, почему!””. И — К. Юсупова: “В природе Тютчева нет персонификаций, там нет птиц, рыб, зверей. Его орлы и лебеди — эмблемы, а не персоналии” (Ф. И. Тютчев, “О вещая душа моя!..”. М., 1995).
Эмблематика мне чужда. Потому и символисты Тютчева боготворили; а я недолюбливаю и символистов.
Мало того, и русский царь, и русская Церковь были для Тютчева лишь эмблемами, и поклонялся он им тоже именно как эмблемам. А эмпирически не любил и не ценил их: не случайно о Николае I он написал самое жесткое из всего, что о нем писали. Так что Бродский совершенно несправедливо попрекал Тютчева, что, мол, тот “лизал сапоги своему государю”. Че-пу-ха. Если и лизал, то эмблеме. А эмпирически скорее бесился — даже яростней Чернышевского.
Ницше остроумно называл ученых-технократов мельниками.
5 августа, вторник.
Позавчера ближе к полуночи умер Александр Солженицын.
То есть с воскресенья на понедельник. В понедельник с утра позвонила из Поленова Нат. Грамолина и сообщила, что сейчас вот по телевизору…
В начале 90-х Е. Р. сказал, что мне в этой стране ничего не светит, потому что я дружу с Солженицыным и хожу в церковь. Зато теперь, видимо, пришел “мой час”: второй день обрывают телефон радио и газеты (первыми позвонили с “Радонежа”). А что скажешь? Умер последний великий русский — больше таких не будет.
В субботу вечерня в бёховском храме; среди подвявших с Троицы березок лучи закатного солнца с другого окского берега — сквозь двери — золотыми полосами доходили до алтаря; и сновали над ними ласточки, свившие в куполе гнездо.
В воскресенье в Шахматове — после четырех лет… Очень все преобразилось, похорошело. Но вдруг — еще по дороге — опустилось чуть не до земли серое безнадежное марево, и пошел въедливый долгосрочный дождь (а я был одет по-летнему). Мы отогревались в еще не достроенном строении — пили, ели, и было славно. Когда уходили мимо лавочек и дощатой сцены, несколько наиболее стойких и дождеустойчивых ценителей изящной словесности там еще гужевались. Стойко сидел на стуле блоковед Лесневский, и какая-то юная стихослагательница с мокрыми рыжими ниже плеч волосами, в штанах до колен, с толстыми икрами завывала, раскинув и вывернув ладонями вперед руки:
Ты мне шептала: моя, моя!
Я отвечала: твоя, твоя!
…То, за что “демократы” 90-х меня блокировали, теперь доносится отовсюду, со всех каналов: “великий писатель”, “великий мыслитель”, “великий государственный деятель” (Путин).
Т. е. то, что я сказал в самиздате в середине 70-х, через 34 года он “повторил” на всю страну по всем телеканалам. Мало того, вызвал сегодня нынешнего министра просвещения Фурсенко и дал распоряжение изучать Солженицына “и в средней и в высшей школе”.
Позвонила Катя Маркова, плачет…
21.30.
Забежал Павел с диктофоном. Записал для радиопрограммы “Воспоминание о Вермонте”. Помянули…
НТВ. Федор Николаевич Гладков — 80-летний ветеран запытан в своей квартире в Новгороде: требовали отдать боевые ордена — он не отдал.
А все-таки каждый поэт любит в стихах другого свой звук, свою тему, свою интонацию и свой образ. Помню, ворвался Рейн в Н.М.: “Ты „Переселенцев” Кузмина читал? Гениально!” А по мне дак ничего особенного. А вот “Не губернаторша сидела с офицером” действительно взяло меня за горло еще тогда — в 1987-м, когда прочитал впервые в Париже. И — берет теперь. Самое белое стихотворение в отечественной поэзии. И действительно — гениально. Без кузминской педерастической кукольности.
Гроб Солженицына стоит всю ночь в малой церкви Донского, и над ним читают. Была б машина — туда б сейчас.
6 августа, 6 утра.
Собираюсь в Донской.
22.10.
Приложился к кресту, к венчику на каменном лбу… Прощай, Исаич.
Похоронили рядом с Ключевским (по которому А. И., кстати, хорошо прошелся, если помнится, за то, что тот передавал свои конфиденциальные беседы с самодержцем Милюкову). В соответствии с новейшими гостенденциями на отпевании вместе с президентом было и высшее чиновничество, которое лет десять назад хихикало над А. И. В монастырском яблоневом саду — военный салют. Был в похоронах постановочный элемент...
9 августа.
Никогда не знаешь, какой именно из “столпов” окажется вдруг столпом поддержки. Теперь, когда у меня обнаружили начало цирроза и мне алкоголь противопоказан, я почему-то все чаще вспоминаю именно Розанова, который не терпел спиртного и относился к нему, если не ошибаюсь, с какой-то брезгливостью и опаской.
10 августа, воскресенье, 23.55.
Сейчас в машине — с Сашей Жуковым возвращались из славного приволжского путешествия. Вдруг голос Сараскиной по московскому радио: “Если бы Солженицын по возвращении поддержал шоковую терапию и прочее, я бы обливалась кровавыми слезами, да-да, кровавыми слезами, но не стала бы писать о нем книгу”.
Еще Сараскина: “Когда Солженицын писал „Россию в обвале”, мы были на самом, на самом дне. А теперь чуть-чуть, но, кажется, стали приподыматься. Ну посмотрите, например, сколько вокруг мобильников”.
…Выехали 7-го днем — после пробок и проволочек. Плещеево озеро, Борисоглебский (любимый мой) безлюдный совсем монастырь, наконец, уже на закате с лучами веерообразными из-под тучи, — на источник св. Иринарха. Троекратное погружение (с головой). Ночевали в Угличе, потом — в Романов-Борисоглебск. Паромная переправа. И на холме (моя видовая точка) закусили: я, Паша Крючков и Саша Жуков, по-над волжским простором.
Рыбинск — близкий по людям, но чужой — по новой (бездарной) архитектурной среде. В кафе — белокурые девушки, по двое, по трое, сидят — томятся, причем красивее, чем в Париже. А пареньки — подшофе, матерок, хохот — гудят отдельно. Когда темнеет, рыбинцы на улицу выходить боятся: ограбления, драки. Вроде бы стало почище, но очагами — мусор, жестянки, окурки, бутылки бросают тут же. На цоколе биржи с 1991 года была памятная щемящая надпись: “Здесь в 1918 году большевики расстреливали русских офицеров”. Надписи теперь нет — уровень набережной подняли, ее затерли, в каменную кладку врезаны безвкусные фонари. Неуютная, аляповатая набережная…
Но и под Ярославлем мемориал расстрелянным в октябре 1938 года совсем зарос, запущен, крапива — позор. И убран указатель — к месту мемориала на шоссе. 20 лет “демократии” — повсеместно стирается память об убиенных, репрессированных; так-то мы чтим своих мертвецов.
На обратном пути, уже из Пошехонья, заехали к старой моей “приятельнице” — сельской учительнице Зое Горюновой. Болеет сердцем, похудела на 20 кг, словно прощалась. Муж — вихрастый добрый мужик. Наготовили к нашему приезду: томленые грибки, жареный судак, малосольные огурцы, ну а уж водочки-то мы привезли. Изба у них крайняя, сразу за ней луг с цветами и оттенками — как в детстве. А ниже — среди валунов звучит-журчит речка.
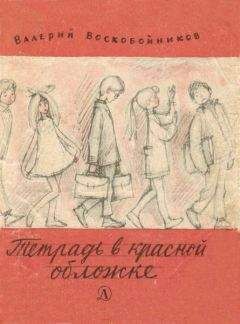

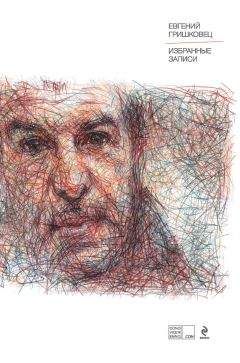
![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/uploads/posts/books/142120/142120.jpg)
