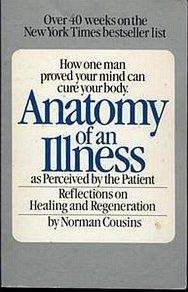Эндрю Соломон - Демон полуденный. Анатомия депрессии
Некая шизофреничка влезала в наш разговор, настаивая, что она убила божью коровку, а не настоящую корову, а родные ее наказали, потому что все перепутали и решили, что она убила корову. Она хотела, чтобы мы исправили ее досье. Мужчина с несуразно большими ступнями нашептывал мне на ухо теории заговора.
— Валите отсюда, — закричала им наконец Энджел. Потом она обхватила себя своими изуродованными руками. — Это невыносимо, — сказала она злобно, и жалко, и несчастно. — Я никогда не освобожусь из этого места. Мне хочется просто биться головой об стену, чтобы она раскололась и мозги вытекли, понимаете вы меня?
Когда я уходил, один из надзирателей спросил:
— Ну как, обнадеживает? — и я покачал головой. — Я тоже так думаю, — сказал он. — Одно время казалось — ничего, потому что она не ведет себя так безумно, как большинство. Я ошибался. Сейчас она вполне осознает реальность, но все равно очень плоха.
— Однажды они уже вытащили меня из самого худшего, — говорила мне Энджел, — может, вытащат опять.
Не прошло и шести месяцев, как эта буря рассеялась, и Энджел снова была на свободе, снова в уютной квартире. Она была полна бодрости. Наконец у нее была работа — укладывать покупки в супермаркете в пакеты, — и она была горда. В китайском ресторанчике нам обрадовались. Мы болтали, избегая таких слов, как «всегда» и «никогда».
Почему, спрашивают меня, почему вы пишите книгу о депрессии? Всем кажется непостижимым, для чего мне окунаться в эту неприятную тему, и, должен признаться, в начале моих исследований мне часто казалось, что я совершил глупость, делая такой выбор. Я придумал несколько ответов, казавшихся мне подходящими к случаю. Я говорил, что мне есть что добавить к уже сказанному о депрессии. Я утверждал, что писательство — это акт социальной ответственности и что я хочу помочь людям верно оценить депрессию и понять, как лучше заботиться о тех, кто страдает ею. Я признавался, что мне предложили щедрый аванс, и я решил, что тема может возбудить воображение публики, а я мечтал стать знаменитым и любимым. Но цель моя явилась мне окончательно лишь тогда, когда я уже написал около двух третей книги.
Я не ожидал от депрессивных людей такой глубокой, такой губительной ранимости. Не осознавал я и того, как сложно эта особая ранимость взаимодействует с личностью человека. Пока я работал над этой книгой, одна моя близкая приятельница помолвилась с человеком, который пользовался своей депрессией в оправдание своей безудержной эмоциональной распущенности. В сексуальном смысле он был неприступен и холоден; он требовал, чтобы она доставляла ему еду и деньги и устраивала его частную жизнь, потому что взять на себя ответственность ему было слишком тяжело; он часами тосковал, пока она нежно его утешала, но не мог припомнить ни единой подробности ее жизни, не мог поговорить с нею о ней самой. Я долго уговаривал ее потерпеть, полагая, что это пройдет вместе с болезнью, но не осознавал, что никакое лечение на свете не сможет сделать из него сильную личность. Позже другая приятельница рассказала, что муж напал на нее — физически, бил головой об пол. Он уже несколько недель вел себя странно — на обычные телефонные звонки отвечал с бешенством, злился на своих собак. После этого злобного нападения она в ужасе вызвала полицию; его отправили в психбольницу. Да, у него было какое-то шизоаффективное расстройство, но он все равно несет ответственность за свои действия. Психическая болезнь часто обнажает в человеке страшные стороны, но она не определяет новую личность целиком. Иногда эта страшная сторона достойна жалости, жалка и голодна — это печально, но это трогает; иногда эта страшная сторона свирепа и жестока. Болезнь выносит на свет мучительную реальность, которую большинство людей окутывают полным мраком. Депрессия утрирует характер. В конце концов, думается мне, она делает хороших людей лучше, а плохих — еще худшими. Она может уничтожать в человеке чувство сообразности и внушать параноидные фантазии и ложное чувство беспомощности; но она тем не менее окно к правде.
В этой книге нет места жениху моей первой приятельницы и мужу второй. В процессе моих исследований и вне их я встречал множество депрессивных людей, к которым у меня возникали негативные чувства или не возникало никаких, и, по зрелом размышлении, я решил о таких людях не писать. Я решил писать о тех, кем я восхищаюсь. Люди в этой книге по большей части сильные, или сообразительные, или крутые, или чем-то вообще выделяющиеся. Я не верю, что существует понятие «средний человек» или что, преподнося типическое, можно явить всеобъемлющую истину. Поиски лишенного индивидуальности, обобщенного человеческого существа — бич популярных книг по психологии. Видя, как много в этих людях жизни, и силы, и изобретательности, можно по заслугам оценить не только ужасы депрессии, но и сложную природу человеческой выживаемости. Однажды я беседовал с одним глубоко депрессивным пожилым человеком, который сказал мне, что «у депрессивных нет никаких историй; нам нечего сказать». У всех людей есть истории, а у выживших в настоящей депрессии они поистине удивительны. В реальной жизни душевное состояние должно существовать посреди хаоса тостеров, атомных бомб и пшеничных полей. В этой книге заботливо собраны истории о замечательных людях и об их успехе. Я верю, что эти истории могут помочь другим, как помогли мне.
Есть люди, которых полностью выводит из строя даже легкая депрессия; другие страдают тяжелой формой болезни и тем не менее что-то делают со своей жизнью. «Некоторые люди могут функционировать в любом состоянии, — говорит Дэвид Макдауэлл, занимающийся в Колумбийском университете проблемами алкоголизма и наркомании. — Но это не значит, что они меньше страдают». Измерять абсолютные величины трудно. «К сожалению, — замечает детский психолог из Лондонского университетского колледжа Дебора Кристи, — в природе не существует «суицидометра», «болеметра» или «печалеметра». Мы не можем измерить в объективных показателях, насколько люди больны, или просчитать силу их симптомов. Мы можем только слушать, что они говорят и принимать на веру, то, что они чувствуют». Между болезнью и личностью человека есть взаимосвязь; одни люди могут терпеть симптомы, которые убьют других; иные едва могут вообще что-либо терпеть. Одни люди поддаются депрессии, другие сражаются с нею. Поскольку эта болезнь убивает любые побуждения, человеку, чтобы продержаться в депрессии и не поддаться ей, нужен некий посыл выживания. Чувство юмора — лучший показатель того, что ты выберешься; часто это лучший показатель и того, что тебя будут любить. Сохрани его — и у тебя есть надежда.
Конечно, бывает трудно сохранять чувство юмора, переживая нечто совсем не смешное. Но это крайне необходимо. Главное, о чем следует помнить во время депрессии: потерянное время не вернешь. Его никто не припрятал на черный день, чтобы компенсировать тебе годы катастрофы. Сколько бы времени ни съела депрессия, оно ушло навсегда. Минуты, которые тикают мимо тебя, пока ты корчишься в болезни, это минуты, которых ты никогда больше не познаешь. Как бы плохо ты себя ни чувствовал, ты должен делать все возможное, чтобы продолжать жить, даже если единственное, что ты в этот момент можешь, — просто дышать. Пережди, но займи время ожидания как можешь более полно. Вот мой совет депрессивным людям. Держитесь за время, не давайте жизни проходить мимо. Даже те минуты, в которые вы чувствуете, что вот-вот взорветесь, — это минуты вашей жизни, и вам никогда не получить их обратно.
Мы верим в существование «химии» депрессии с потрясающим фанатизмом. В попытках отделить депрессию от человека мы бросаемся в вековечные дебаты о границах между присущим ему и наработанным. В попытках отделить депрессию и лечение от человека мы превращаем человека в ничто. «Человеческая жизнь, — пишет Томас Нейджел в «Возможности альтруизма» (The Possibility of Altruism), — состоит в первую очередь не в пассивном принятии стимулов, приятных или неприятных, приносящих удовлетворение или недовольство; она в значительной степени состоит в деятельности и занятиях. Человек должен жить собственной жизнью; другим не дано прожить жизнь за него, и ему не дано жить их жизнью». Что естественно или подлинно? Лучше уж искать философский камень или источник молодости, чем истинные механизмы эмоций, нравственности, страдания, веры или праведности.
Проблема не нова. В поздней пьесе Шекспира «Зимняя сказка» Утрата и Поликсен спорят в саду о границах реального и искусственного — природного и созданного. Утрата сомневается в правомочности привития растений, потому что это соревнование с природой-создательницей. Поликсен отвечает:
И что же? Ведь природу улучшают
Тем, что самой природою дано.
Искусство также детище природы.
Когда мы к ветви дикой прививаем
Початок нежный, чтобы род улучшить,
Над естеством наш разум торжествует,
Но с помощью того же естества[99].
Я очень рад, что мы придумали все эти способы накладывать искусство на природу: научились готовить еду, смешивая в одной тарелке ингредиенты с пяти материков; вывели современные породы собак и лошадей; выплавляем металл из руды; скрестили дикорастущие фрукты и получили персики и яблоки, какими знаем их сегодня. Я рад и тому, что мы научились делать центральное отопление и проводить воду в дома, строить огромные здания, корабли, самолеты. Меня восхищают средства быстрой коммуникации; я полностью завишу от телефона, факса и электронной почты. Я рад, что мы изобрели технологии, позволяющие беречь зубы от гниения, защищаться от множества болезней и добиваться долголетия для большой части населения нашей планеты. Я не отрицаю, что у всей этой искусственности были и есть вредные последствия, включая загрязнение и глобальное потепление, перенаселение, войны и оружие массового уничтожения. Тем не менее наше умение созидать ведет нас вперед, и мы, по мере привыкания к каждому новшеству, начинаем воспринимать его как общее место. Мы забыли, что всеми любимая многолепестковая роза когда-то была неприличным вызовом природе, которая подобного цветка в своих лесах не выращивала, пока не вмешались ученые садоводы. Природа это была или искусство, когда бобер впервые построил свою плотину, или когда обезьяна, отставив большие пальцы, почистила банан? Бог сотворил виноград, сок которого сбраживается в алкогольный напиток, — делает ли это обстоятельство естественным состояние опьянения? Или, будучи пьяными, мы уже не мы? Когда мы голодны? Когда объедимся? Тогда кто же мы?