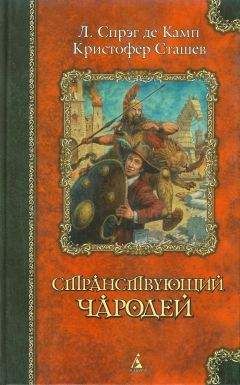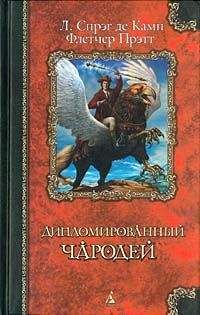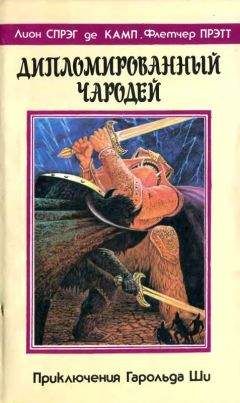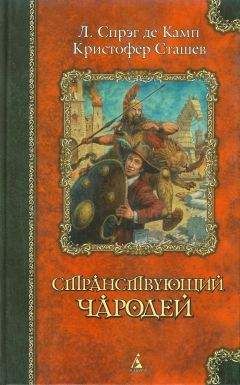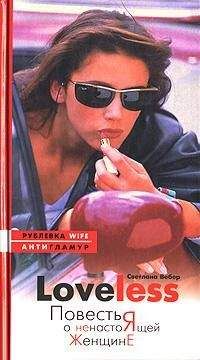Елена Толстая - Большая нефть
— Прочитал, — сказал Василий мрачно. — И пришел снова за духовной пищей. Неужто не одобряете?
— Одобряю, — улыбнулась Маша.
Она взвалила на него книги, открыла своим ключом дверь библиотеки, вошла. Постояла мгновение в полутьме, вдыхая знакомый запах — пыли, бумаги. Потом щелкнула выключателем. Помещение сразу стало казаться меньше. Зато выглядело оно более обжитым. Все здесь знакомо, безопасно: стеллажи, книги, стенды наглядной агитации, особый стеллаж новинок и список — на новинки читатели записывались и брали в порядке очереди. На дальней стене находился большой живописный портрет Маркса, привезенный Дорошиным из областного центра в качестве особого дара партийной организации.
Болото вошел вслед за Машей и подозрительно огляделся по сторонам, как бы в поисках возможного соперника, дабы сразиться с ним немедленно и по возможности уничтожить. Никаких соперников в пустом помещении он не обнаружил и уперся взглядом в Маркса.
— На что вы так яростно смотрите, Василий? — удивилась Маша. Она проследила его взор и чуть улыбнулась: — На Карла Маркса?
Болото сказал:
— А почему здесь его портрет? — И спохватился: — Нет, ну я понимаю, что он основоположник. И сочинения его в библиотеке, наверное, имеются в полном комплекте. Но все-таки — почему не Ленин, к примеру?
— Этот портрет нам подарен, — сказала Маша. — А вообще, я думаю, он здесь не случайно. Вы знаете, что, когда у Карла Маркса спросили, какое у него любимое занятие, он ответил: «Рыться в книгах».
— Вот как, — задумчиво протянул Василий Болото и совершенно другими глазами уставился на бородатого основоположника. — Рыться в книгах… Отчего же не читать их? Читать было бы уместнее.
— Наверное, вы правы, Василий, — согласилась Маша. И добавила: — Однако и это очень большой прогресс, особенно на фоне здешнего люда, у которого любимое занятие — домино.
Василий покосился на Машу с таким видом, будто сильно сожалел о ее наивности, однако счел за лучшее промолчать и в детали не вдаваться.
— Ну что, понравилось вам? — спросила Маша, отправляя Лермонтова на полку.
— А? — Василий проводил Лермонтова глазами. — Да, понравилось. Жизненное, — прибавил он, не зная, что еще сказать. Обыкновенно так говорила мать Василия, когда возвращалась из кинотеатра. «Понравилось кино, мамаша?» — «Да, очень, сыночек. Жизненное».
Маша тоже не знала теперь, о чем говорить. Ей казалось, что продолжать беседу о Лермонтове будет неловко. Если читатель говорит, что поэма «Демон» — это «жизненное», то разговор может принять самый неожиданный оборот. Маша решила вдруг перейти на темы, которые были бы близки Василию. И не нашла ничего умнее, чем обратить внимание на кровоподтек, дивно украшавший скулу собеседника.
— А это у вас фингал, — произнесла она, прибегая к лексикону, ей обыкновенно не свойственному, — это, похоже, вам накостыляли?
— Чего? — возмутился Василий и враждебно нахмурился. — Хотел бы я посмотреть на этого… э… смельчака, — нашелся он. Все другие слова, которые вскипали в его уме, были не для Машиного слуха. Он пожал плечами: — Да это так, я зазевался — и попал под ключ… Мелочи жизни.
Маша отважно сделала вторую попытку:
— Может, вам записаться в общество «Динамо»? В секцию бокса?
— Чего? — опять возмутился Василий. — Я с детства за «Спартак» болею!
Маша почувствовала, что заливается краской смущения. Да что ж такое, что ни скажет — все невпопад! Хорошо ребятам из бригады Казанца, где она побывала сегодня днем. Те какую ерунду ни брякнут — все им весело, все кажется впопад. Хотя глупостей наговорили воз и маленькую тележку. Может, не осознают, что чушь болтают? А может, другая есть причина. У Маши так не получается.
Словно желая добить бедняжку, Болото прибавил откровенно враждебным тоном:
— Да между прочим, я с самим Борисом Лагутиным в одном зале занимался.
Он медленно сжал кулаки.
Маша сказала отважно:
— А ведь вы враль. Знаете, что делали в Древнем Китае с такими лгунами, как вы?
Василий разжал кулаки, лицо его приняло человечное, даже доброе выражение.
— Что врать-то, конечно не знаю… — Он не продолжил, видно было, что древнекитайские лгуны интересуют его сейчас меньше всего на свете. Василий глубоко вздохнул и перешел к главному, ради чего пришел сегодня в библиотеку: — Маша, у меня скоро вахта заканчивается. Я несколько дней буду в Междуреченске. Может… это… сходим куда-нибудь? Ну там в кино… или на танцы?
Маша беззвучно ахнула. Меньше всего ей хотелось сейчас заводить какие-то новые отношения. Она смертельно устала. Устала от попыток наладить разваливающуюся семейную жизнь с мужем, который то пьян, то кается, то требует к себе уважения. Устала от развода — от попыток забыть все те обидные слова, которыми они обменивались, расходясь «как в море корабли». Она с трудом заставила себя прекратить мысленный диалог с Леонидом. Остановила перечень обид. Заставила себя отрезать этот кусок жизни. Прошлое осталось в прошлом; теперь надо жить настоящим. Она сама ведь говорила Вере, что развод — это еще не конец всему.
Но когда Василий пригласил ее на свидание, вся душевная усталость, накопленная за минувшие месяцы, вдруг разом навалилась на Машу. У нее не нашлось даже сил сказать Василию «нет». И уж тем более — что-то объяснять.
А он стоял рядом, сумрачный и темный, и терпеливо ждал ответа. Она поняла вдруг, что он будет ждать, пока не услышит «да». И ему безразлично, сколько времени займет это ожидание — месяц или год. Он никуда не денется.
Маше показалось, что она угодила в ловушку. На миг она задохнулась… Но к счастью, в этот самый момент в библиотеку вошли читатели. Веселые, морозные, грохочущие сапогами.
— Маша, здравствуйте. Мы там посмотрим книжки?
И, дождавшись едва заметного кивка, исчезли за стеллажами. Зашумели там, переговариваясь и смеясь.
— Ну так что? — шепотом повторил Василий. — Придете?
Маша враждебно взглянула на него. Быстро взяла с полки новинок две книги и вручила Василию.
— Так. Вот вам Роберт Рождественский, выдающийся поэт современности. Непременно ознакомьтесь. Все уже читали. А это проза — Валентин Распутин. Необходимо быть в курсе последних достижений советской литературы. Вы знаете, насколько это расширяет горизонты? Мне лично жаль американских тружеников, у которых еще нет возможности прочесть эти замечательные книги. И напоследок вам Грибоедов — «Горе от ума». Прочтите… А там посмотрим.
Ошеломленный Болото уставился на обложку с вытисненной надписью «Библиотека школьника».
— А «Горе от ума» — это не лишнее? — сделал он робкую, неубедительную попытку отвертеться хотя бы от Грибоедова.
— Нет, — безжалостно отрезала Маша, — в самый раз!
* * *Если бы Маша была лучше осведомлена о происходящем, то, вероятно, вручила бы Василию не «Горе от ума», а «Ревизора». Потому что именно это произведение русской классики было, хотя бы в некоторых отношениях, сейчас наиболее актуально для Междуреченска.
— К нам едет ревизор.
— Как ревизор?
— Как — ревизор?
Да вот так, едет Алексей Николаевич Косыгин, председатель Совета Министров СССР… Едет лично разобраться, дать напутствие и оценить обстановку.
В некоторых, наиболее слабых умах это обстоятельство вызвало настоящую бурю.
К числу таковых в первую очередь принадлежал Василий Михеев — «освобожденный» заместитель секретаря партийной организации. Михеев был вскормлен комсомолом — однако не тем комсомолом, о котором советский поэт написал:
Нас водила молодость
В сабельный поход…
А совершенно другим — комсомолом функционеров и карьеристов. Если бы Дорошин читал Машиного любимого Дюма, то называл бы Михеева «серым кардиналом». К сожалению или к счастью, но Макар Степанович не обременял свой и без того отягощенный ум измышлениями французского романиста и потому называл Михеева коротко и просто — «сволочь».
Михеева ему навязали. В качестве «перспективного кадра». Чтобы Макар Степанович его воспитывал и передавал опыт партийной работы. На деле это означало, что Михееву надлежит следить за каждым шагом Дорошина, докладывать начальству наверх о каждом факте самоуправства местного парторга. Со временем, как предполагалось, Михеев займет кресло Дорошина и возьмет дело в свои руки. Со временем. Пока же еще это время не наступило.
«Вот ведь бодливой корове бог рогов не дал, — думал иной раз Макар Степанович, наблюдая за своим заместителем. — Ему бы лет на двадцать раньше родиться… неоценимый кадр бы вышел. Даже подумать жутко, что было бы, очутись Михеев в другой эпохе… когда все обстояло куда как жестче».
Даже в мыслях Макар Степанович боялся называть некоторые вещи своими именами.