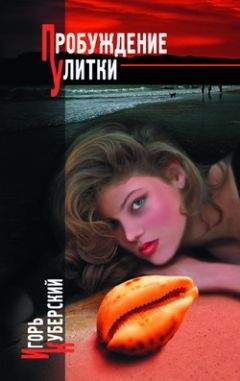Неизвестно - zolotussky zoil
«Счастливые советские люди в воскресный день наслаждаются заслуженным отдыхом», — так начинается абзац с описанием народного гуляния за городом — того самого гуляния, на котором изнасиловали тетю Граню. «У нас везде есть место подвигу!» — смеется сквозь слезы жена Сошнина, сидя у его изголовья в больнице, куда доставили его после схватки с Венькой Фоминым.
Кстати и некстати возникают эти штампы, эти вездесущие и всегда готовые словесные стереотипы, на которые косо смотрит Астафьев, его живая, смелая, непреднамеренная и — повторяю, настаиваю — свободная речь.
Ирония языка — это тоже взято у Гоголя. Вспомним речь Чичикова и его постоянные упоминания о величине российского государства, на пространствах которого могли бы уместиться несколько римских монархий. Вспомним его литературщину, сравнения себя с баркой, носимой волнами, и т. п. Гоголевская усмешка заглядывает на страницы «Печального детектива», освещая его солнечным смехом. Если смех играет, если он, заломивши шапку, играет при народе, на миру — значит, есть в силе, его породившей, жизнь, значит, не истощена она.
Хотя само солнце редко светит над Вейском. Пора такая избрана — поздняя осень или декабрьская оттепель, когда снег согнан с улиц и полей, все пусто, обнажено, все раскисло, плачет серыми слезами и взывает к ответным слезам. И лишь в конце романа, в сцене на кладбище, куда Сошнин зашел проведать мать и тетку Лину, снег накрывает Вейск, забеляя его язвы, его раны, его могилы и пустыри.
И тут мне приходит на память окончанье рассказа Астафьева «Ясным ли днем»: «Покой был на земле. Спал поселок. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет... Из тлеющих солдатских тел выпадали осколки и, звякая по костям, скатывались они в темное нутро земли». Ту же связь умерших с землею, их какую-то обратную связь чувствует и Сошнин. Он думает о земле, что она раскололась бы, если б могла чувствовать боль тех, кто лежит в ней. Она задавила, раздавила их, но она не может ответить на вопрос: зачем люди торопят друг дружку туда, тогда как «надо бы наоборот»?
Загадка жизни и загадка смерти тревожат Астафьева Отсюда и сгущенные символы романа — воронье и телята, люди и нелюди, диаволы и бесы. И сама земля входит в этот символический ряд, как некая одушевленная сила, которую надо разбудить, потрясти, заставить переживать чужое горе Потому что если она останется каменной, каменно-бездушной, кажется, и у человека нет предела отчаяния
И еще одна загадка встает в конце романа перед Дон Кихотом из Вейска Загадка «ячейки» жизни — семьи Семья — так легко нарушившаяся у Сошнина — противостоит смерти, противостоит уничтожению. Она единственное, что может выбить из-под тоски ее кривые костыли
Символом этой тоски, этого стоящего на грани полусна, полубреда отчаяния выглядят в романе два образа — образ раздавленной на дороге крысы, которую видит, истекая кровью в машине «скорой помощи», Сошнин, и образ одинокой лошади, бредущей без хозяина, без понукания по улицам опустевшего Вейска. Эту крысу клюет в голову воронье, и на мгновенье ее голова кажется Сошнину его собственной головой с голубыми северными глазами. А лошадь? Это образ одиночества, образ безнадеги, на которую обречен он, Сошнин, останься он только с самим собой, один со своими мыслями.
Вот почему обращается он в последнюю ночь романа к рассуждениям о семье Приведя Лерку и Светку в свою одинокую комнату и устроив их на ночлег, он садится у стола и кладет перед собой чистый лист бумаги. Что будет на нем написано? Автор не знает. Не знает этого и герой.
«Экая великая загадка! — размышляет перед тем, как сесть за стол, Сошнин. — На постижение ее убуханы тысячелетия, но так же, как смерть, загадка семьи непонятна, не разрешена. Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья, если они и она блудили, не находя друг друга. Династии, общества, империи, не создавшие семьи или порушившие ее устои, начинали хвалиться достигнутым прогрессом, бряцать оружием; в династиях, империях, обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло начинало одолевать добро, земля разверзалась под ногами, чтоб поглотить сброд, уже безо всяких на то оснований именующий себя людьми».
Этот публицистический пассаж как нельзя кстати подходит к описываемому моменту. Что развело Сошнина и Лерку? Самолюбие, невозможность уступить друг другу, если хотите, гордость ума. Оба образованные, оба отчасти эмансипированные, Лерка — дочь своей матери, с ее фанаберией и трескучими фразами из Маяковского, но все же отходчивая, отзывчивая на беду, и Сошнин — писатель, творческая личность, эгоист творчества, решивший, что семья будет ему мешать писать рассказы.
Самолюбие в конце концов отступает перед сочувствием, перед теплой жалостью к родной крови, к собственному ребенку и к той же Лерке, «которая все же баба. Жена. Крест. Хомут на шее. Обруч. Гиря. Канитель земная». Конечно, лучше читать в романах про возвышенную любовь, про то, как хорошо ткнуться в колени женщины и забыть все на свете, — тут надо тащить груз, впрягаться в хомут. Хорошо страдать по далекой Дульсинее, но труднее любить того, кто у тебя под боком.
В начале «Печального детектива» (и тут мы не побоимся тавтологии) «глубокая, уже постоянная печаль» гложет героя Астафьева. Он ведь ни в исправившихся негодяев не верит, ни в то, что диаволов и бесов «подлечить» можно. Даже тот, кто у бога за свои грехи страшные готов прощения просить, у него не вызывает сочувствия. А в конце романа, глядя на свою успокоившуюся семью, на Лерку, разметавшуюся в его холостяцкой кровати, на Светку, притулившуюся на старом дедовском сундучке (сколько поколений складывали в него свои одежды!), он уже не испытывает прежней безнадежной печали. Печаль остается, но она как-то меняется, она соединяется с «покоем», с отсутствием «раздражения и тоски в сердце», она — «сладкое горе, воскрешающая, животворящая печаль».
Надолго ли? Неизвестно. Но это уже и неважно. Минута соединения засечена, остановлена, воспета Астафьевым. Он дрожит от ее непрочности, ее мгновенности, ее, может быть, обманывающей сладости.
Пусть. Исполать ему. Исполать его герою, который, в отличие от героя Сервантеса, все же обрел дом. Все же ввел семью под его крышу.
Астафьев написал роман, который жжет душу, бередит совесть, вызывает в ответ желание быть столь же свободным, как и его автор. В свободе-то и все дело. Она нужна каждому из нас. Она нужна народу и государству — такое сейчас время, когда пришла пора без страха оглядеть себя и свою опору в жизни, и в этом смысле Виктор Астафьев выполнил завет, который оставил поэтам Гораций:
Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня,
Прочее все отложить и сказать в подходящее время.
1986 г.
ОТЧЕТ О ПУТИ
Журнальная проза в 1986 году
Ветер подул, и море литературы колебнулось. Оно, собственно, и раньше не спало, не дремало, но то была беспокойная жизнь его толщи, его недр, сейчас ветер срывает с волн гребешки, дует напористо, резко, и волнуется по преимуществу поверхность, видимая гряда воды, которая, подходя к берегу, ударяется о мол и обещает шторм, смятение в природе.
Так это или не так, нам еще предстоит проверить (и не в этой статье, а в жизни), а сейчас обратимся к шуму и свисту ветра, не запрещая себе время от времени заглядывать в глубину моря, которая тоже открывается в этом волнении, но в которую не любит заглядывать читатель. Читатель наш все еще сидит верхом на детективе, все еще, оседлав действие, скачет на нем в неизвестность — в ту нестрашную неизвестность, где ему обещают легкую трепку нервов, убитое время и счастливый конец. Он и историю, и политику, и любовь хотел бы облечь в детектив, придать им энергию детектива, чтоб эта энергия несла его бог знает куда — но не туда, где плохо.
Странные вещи творятся в литературе. Еще вчера кто-то и слова сказать не смел о Гумилеве, а сегодня он апологет Гумилева, а те, кто надеялся, что Гумилева никогда издавать не будут, пребывает в ожесточении уныния. Правда не успела появиться в «Огоньке» подборка стихов Гумилева с приличествующим им вступлением, как Евг. Евтушенко — кормовой прогресса — тут же притормозил. В своей статье в «Литературной газете» он высказался так: Гумилев, конечно, хороший поэт, но и у него есть плохие стихи. А что? И сам А. Блок писал не всегда удачно.
Так думает Евг. Евтушенко. А литературовед-теоретик П. Николаев, не успел журнал «Москва» объявить о том, что он публикует роман В. Набокова «Защита Лужина», уже предупредил нас: «Благодарна и естественна нынешняя озабоченность восстановления забытых имен. Но столь же естественным должно быть при этом чувство нравственной и социальной меры».
Роман еще не вышел, а чувство меры соблюдать пора
Так откликается наша теория на треволнения практики. Хочет встретить грядущий шторм во всеоружии, верит, что еще не вечер, что стрелка барометра развернется и падет на твердое «тихо».