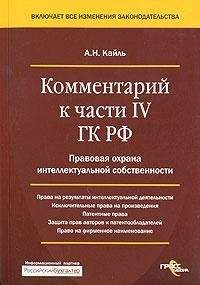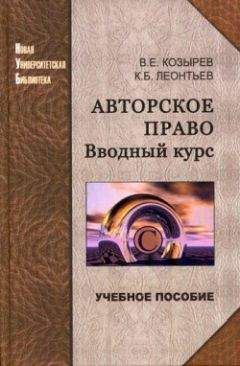Александр Янов - Россия и Европа-т.3
Другую судьбу обещала России сокрушительная победа иосифлян. Да, они сумели отстоять монастырские земли, но цена уплаченная ими за это - благословение неограниченной и вдобавок «сакральной» власти царя в стране, где не успели еще после степного ярма окрепнуть ограничения власти, - оказалась чудовищной. Они создали монстра. В ходе самодержавной революции Грозный царь разгромил и церковь, и аристократию, и, отменив «крестьянскую конституцию» Ивана III, закрепостил подавляющее большинство населения страны.
Нет печальнее чтения, нежели вполне канцелярское описание этой национальной катастрофы в официальных актах, продолжавших механически крутиться и крутиться, описывая то, чего уже нет на свете. « В деревне в Кюлекше, - читаем в одном из таких актов, - лук Игнатки Лукьянова запустел от опричнины - опричники живот пограбили, а скотину засекли, а сам умер, дети безвестно сбежали... Лук Еремейки Афанасова запустел от опричнины - опричники живот пограбили, а самого убили, а детей у него нет... Лук Мелентейки запустел от опричнины - опричники живот пограбили, скотину засекли,сам безвестно сбежал...»[186]
И тянутся и тянутся бесконечно, как русские просторы, бумажные версты этой летописи человеческого страдания. Снова лук (участок) запустел, снова живот (имущество) пограбили, снова сам сгинул безвестно. И не бояре это все, заметьте, не «вельможество синклита царского», а простые, нисколько не покушавшиеся на государеву власть мужики, Игнатки, Еремейки да Мелентейки, вся вина которых заключалась в том, что был у них «живот», который можно пограбить, были жены и дочери, которых можно изнасиловать, земля, которую можно отнять - пусть хоть потом запустеет.
...Преподавал в конце XIX века в Харьковском университете легендарный реакционер профессор К. Ярош, стоявший на страже исторической репутации Ивана Грозного столь свирепо, что даже такие непримиримые современные её защитники, как В. Кожинов или А. Елисеев, решительно перед ним бледнеют. Но и Ярош ведь вынужден был признать, познакомившись с Синодиком (поминальником жертв опричнины, составленным по приказу самого царя), что «кровь брызнула повсюду фонтанами и русские города и веси огласились стонами... Трепетною рукою перелистываем страницы знаменитого Синодика, останавливаясь с особенно тяжелым чувством на кратких, но многоречивых пометках: помяни, Господи, душу раба твоего такого-то - сматерью и зженою, и ссыном, и сдочерью»[187].
Замечательный поэт Алексей Константинович Толстой тоже признавался, что перо выпадало у него из рук при чтении Синодика. И не столько оттого, писал он, что могло существовать на русской земле такое чудовище, как царь Иван, сколько оттого, что существовало общество, которое могло смотреть на него без ужаса. Большинство русских ист<уэиков XIX века с ним соглашалось. Н.М. Карамзин негодовал по поводу того, что «по какому-то адскому вдохновению возлюбил Иван IV кровь, лил оную без вины и сёк головы людей славнейших добродетелями»[188]. М.П. Погодин был еще непримиримее: «Злодей, зверь, говорун-начетчик с подьяческим умом... Надо же ведь, чтобы такое существо, потерявшее даже лик человеческий, не только высокий лик царский, нашло себе прославите- лей»[189]. Итог подвел С.М. Соловьев: «Он сеял страшными семенами -
и страшна была жатва... Да не произнесет историк слова оправдания такому человеку»[190].
Добавьте, что человек этот резко изменил традиционную стратегию страны, «повернув, - по его собственным словам, - на Германы» и открыв тем самым её южные границы для крымских разбойников. Удивляться ли, что те сожгли Москву на глазах у изумленной Европы? Такого пожара страна еще не видела. В огне погибло, как помнит читатель, почти всё население города. Те, кто спрятался в каменных подвалах, задохнулись от дыма, в том числе главнокомандующий московскими войсками Иван Петрович Вельский. Улицы были завалены обгоревшими трупами. Их сбрасывали в реку, но так много их было, что «Москва река мёртвых не пронесла». Город пришлось заселять заново.
Вдобавок еще увели в полон крымчаки по позднейшим подсчетам около 8оо тысяч беззащитного населения центральных областей России, положив начало их вековому запустению. Добавьте также, что вместе с бессмысленно загубленными полками, полегшими на полях Ливонии, и с никем несчитанными тысячами Еремеек и Мелентеек, сгоревших в пламени опричного террора, жизнью каждого десятого заплатила Россия за «адское вдохновение» своего царя.
. . Глава одиннадцатая
Наследство Грозного I последн-йсор царя
Но все это лишь о стратегических ошибках царя Ивана и о первом в русской истории тотальном терроре, ^ез которого оказалось, как мы видели, невозможно сломать либеральный для своего времени государственный строй докрепостнической и досамодер- жавной России. Историки XIX века еще не знали о замечательном хозяйственном подъеме страны в первой половине XVI столетия. Это раскопали в провинциальных архивах их советские коллеги в 1960-е. И лишь тогда стало в полной мере понятно, что на самом
деле сотворил с растущей, процветающей страной Грозный царь. Он ее разорил. Дотла. Втравив ее в бесконечную четвертьвековую войну против всей Европы, закончившуюся вдобавок позорной капитуляцией России, он отбросил ее экономику по меньшей мере на столетие назад, превратив ее в самое отсталое государство Европы, в «бедный, - по словам С.М. Соловьева, - слабый и почти неизвестный народ»[191]. Именно с той поры и обречена была Россия «догонять» Европу.
И сделал Грозный царь все, что было в человеческих силах, чтобы она никогда ее не догнала. Ибо несопоставимо страшнее оказались последствия его самодержавной революции для будущего страны. Я говорю об институциональных и идейных нововведениях Грозного, сделавших эту революцию необратимой - на столетия. Основных нововведений было четыре.
Первым стала отмена Юрьева дня. Для русского крестьянства эта потеря обернулась катастрофой, от которой оно так никогда и не смогло оправиться. Прикрепление к земле навечно неминуемо должно было перерасти в вековое рабство, включая распродажу крепостных семей в розницу. Не менее страшно для будущего страны было лишение крестьян, наряду с собственностью, и элементарного просвещения. Они оказались оставлены наедине с архаическими представлениями о мире, по сути, законсервированы в средневековье. До такой степени, что, по выражению М.М. Сперанского, даже «чтение грамоты числилось [у них] между смертными грехами»[192]. Россия заплатила за это злодейство своего царя не только церковным расколом пугачевщиной, но в конечном счете и советской властью, руководящее ядро которой составили после самоуничтожения петровской Росии не в последнюю очередь выходцы из того же искусственно архаизированного «мужицкого царства».
На следующее, пожалуй, самое долговечное нововведение той поры впервые, кажется, обратила внимание американский историк Присцилла Хант. То была придуманная теми же иосифлянами специально для Ивана IV теория сакральности верховной власти. Согласно
ей, обладал верховный властитель, подобно Христу, двумя телами - земным и небесным. В повседневной жизни мог он и согрешать как всякий земной человек, но как воплощение Господней воли ошибаться он не мог. Поскольку оказывался каким-то образом царь даже не наместником Бога, как всякий абсолютный монарх его времени, но в известном смысле и самим Богом. Будучи ответственным не только за благоустройство страны, но и за готовность душ человеческих к вечной жизни - во всем христианском мире, - обязан он был «очистить этот мир от скверны и греха». Хант назвала эту теорию «персональной мифологией царя Ивана»[193].
Так оно поначалу и было. Но идея прижилась. И постепенно оказалась центральным мифом самодержавия. Впоследствии распо- странился миф, как выяснилось, и на власть атеистическую, а при Сталине и вовсе словно бы воссиял прежним неземным светом. Можно предположить, что и в наши дни именно на обломках этого иосифлянского мифа и держатся запредельно высокие рейтинги верховной власти.
Третьим нововведением Грозного царя как раз самодержавие и было.. Благословение иосифлян, легитимизировавшее неограниченную и сакральную власть (читай произвол) царя, обернулась катастрофой для русской аристократии. Даже та ее часть, что уцелела в огне тотального террора опричнины и вызванной им великой Смуты, довольно скоро - и надолго - оказалась политически бесплодной. Просто потому, что превратилась в рабовладельческую и, следовательно, полностью зависимую от власти.
Коварство этого плана, обеспечившее ему столь невероятное долголетие, заключалось помимо всего прочего в том, что он вовлекал в орбиту холопской традиции одновременно и «низы» и «верхи»
ч>
общества. Если крестьянство было отныне в рабстве у землевладельцев и средневековой архаики, то землевладельцы в свою очередь оказались в рабстве у власти и патологической грезы Ивана Грозного о «першем государствовании» (о мировом первенстве на современном политическом сленге), намертво переплетенной с четвертым, и почти столь же долговечным, как миф о сакральности верховной