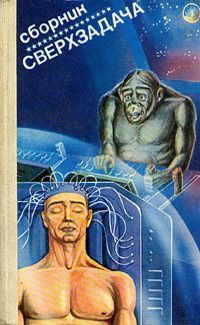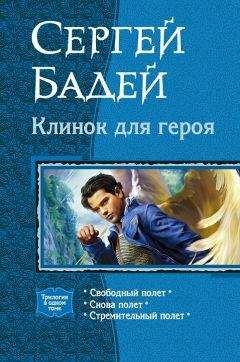Пол Остер - Измышление одиночества
Каждое утро вставал рано, домой возвращался поздно, а между – работа, ничего, кроме работы. Работой звалась страна, в которой он жил, и был он среди величайших ее патриотов. Однако не скажешь, что работа была ему в удовольствие. Трудился он прилежно потому, что хотел как можно больше денег. Работа была средством достижения цели – дорогой к деньгам. Но и цель не могла дать ему удовольствия. Как писал молодой Маркс: «Если деньги являются узами, связывающими меня с человеческою жизнью, обществом, природой и людьми, то разве они не узы всех уз? Разве они не могут завязывать и расторгать любые узы? Не являются ли они поэтому также и всеобщим средством разъединения?»[19]
Всю жизнь он грезил о том, чтобы стать миллионером, быть самым богатым человеком на свете. Он хотел не столько самих денег, но того, что они собой представляют: не просто успех в глазах всего мира, но способ сделать себя недосягаемым. Иметь деньги означает больше, чем иметь возможность покупать вещи: это значит, что мир тебя никогда не тронет. Деньги в смысле защиты, стало быть, не удовольствия. Все детство он прожил без денег, а значит – уязвимым для капризов мира, и понятие о благосостоянии стало для него синонимом понятия о бегстве – от вреда, от страданий, от положения жертвы. Он пытался купить не счастье, а просто отсутствие несчастья. Деньги были панацеей, воплощением его глубочайших, невыразимейших человеческих желаний. Ему не хотелось их тратить, он желал их иметь, знать, что они есть. Деньги были не эликсиром, но противоядием: пузырьком лекарства, который держишь в кармане, выходя в джунгли, – на всякий случай, вдруг ужалит ядовитая змея.
* * *Временами его нежелание тратить деньги было так велико, что напоминало чуть ли не болезнь. Дело никогда не доходило до того, что он отказывал себе в том, что ему нужно (ибо нужды его были минимальны), но все происходило тоньше: всякий раз, когда требовалось что-то купить, он выбирал самый дешевый вариант. Охота за скидками как образ жизни.
В таком образе мыслей просматривался примитивизм восприятия. Все различия стерты, все сведено к наименьшему общему знаменателю. Мясо есть мясо, ботинки есть ботинки, ручка есть ручка. Не важно, что можно выбрать между лопаткой и филе, что существуют одноразовые шариковые ручки за тридцать девять центов – и пятидесятидолларовые авторучки, которые прослужат тебе двадцать лет. Поистине изысканные предметы вызывали чуть ли не ужас: они значили, что за них придется платить непомерную цену, а мораль этого сомнительна. В более общем смысле это превращалось в неизбывную чувственную аскезу: закрывая на столь многое глаза, он лишал себя непосредственного контакта с формами и текстурами мира, отрезал себя от возможности пережить эстетическое наслаждение. Мир, на который смотрел он, был местом практическим. Все в нем имело свою ценность и цену, и замысел сводился к тому, чтобы получать то, что тебе нужно, по цене как можно более близкой к ценности. Все понималось лишь с точки зрения функциональности, судилось лишь по тому, сколько оно стоит, а никогда не как действительный предмет со своими особыми свойствами. В каком-то смысле, могу себе представить, мир казался ему местом скучным. Однообразным, бесцветным, неглубоким. Если рассматриваешь мир лишь в понятиях денег, в итоге не видишь мира вообще.
* * *В детстве у меня бывали случаи, когда мне становилось решительно неловко за него на людях. Препирался с лавочниками, ярился из-за высокой цены, спорил так, будто на кону стояло его мужское достоинство. Отчетливое воспоминание, как во мне все скукоживалось, я хотел оказаться где угодно на свете, только не тут. Особенно выделяется один конкретный случай: пошли с ним покупать мне бейсбольную перчатку. Две недели каждый день после школы я заходил в этот магазин и любовался той, которую мне хотелось. Затем, взяв меня с собой вечером туда ее покупать, отец так орал на продавца, что я боялся, не разорвал бы он его на куски. Испугавшись так, что сердце в пятки ушло, я сказал ему, чтоб не волновался, не очень-то мне эта перчатка и нужна. Когда мы выходили из магазина, он предложил купить мне рожок мороженого. «Перчатка эта все равно никуда не годится, – сказал он. – В другой раз я тебе куплю получше».
Получше, конечно, означало похуже.
* * *Тирады о том, что в доме горит слишком много света. Он всегда подчеркнуто покупал самые маломощные лампочки.
* * *Его отговорка тому, что он никогда не водил меня в кино:
– Чего ради тратить целое состояние, если через год-другой это все равно покажут по телевизору?
* * *Редкий семейный выход в ресторан: мы всегда были вынуждены заказывать самое недорогое в меню. Стало чем-то вроде ритуала. «Да, – говорил, он кивая, – это хороший выбор».
Много лет спустя, когда мы с женой жили в Нью-Йорке, он иногда водил нас ужинать. Сценарий неизменно оставался одинаков – едва мы клали последнюю вилку еды в рот, он спрашивал: «Ну что, пойдем?» О десерте и подумать не успеешь.
Его крайняя бесприютность в собственной коже. Его неспособность сидеть спокойно, светски беседовать, «расслабляться».
С ним всегда было нервно. Такое ощущение, что он сейчас уйдет.
* * *Он любил умные маленькие розыгрыши, гордился своей способностью перехитрить мир в его же игре. Скаредность в самых обыденных житейских ситуациях, не только жалкая, но и смехотворная. В своих машинах он вечно отсоединял одометры, подделывая пробег, чтобы обеспечить себе при обмене цену получше. У себя дома он всегда все ремонтировал сам, а не нанимал умельца. У него был дар к механике, и он понимал, как все работает, а поэтому ходил странными напрямками, брал то, что под рукой, и решал механические и электрические проблемы Руб-Голдберговыми устройствами[20], а не тратил деньги на то, чтобы все сделать правильно.
Постоянные решения никогда его не интересовали. Он все латал и латал, часть тут, кусочек там, лодка у него никогда не тонула, но и плыть толком он ей не давал.
* * *Как он одевался: словно бы отставая лет на двадцать. Дешевые костюмы из синтетики с вешалок уцененных магазинов; пары ботинок без коробок из ларей в скидочных подвалах. Это не только доказывало его прижимистость – такое наплевательство на моду укрепляло его образ человека не от мира сего. Его одежда казалась выражением одиночества, явным способом подтвердить отцово личное отсутствие. Хоть он и был зажиточен, ему по карману было все, чего б ни захотел, выглядел он бедняком, мужланом только что с фермы.
В поздние годы жизни это несколько изменилось. Снова став холостяком, он, должно быть, как-то встряхнулся: понял, что, если ему нужна хоть какая-то светская жизнь, выглядеть он должен презентабельно. Нет, он не пошел покупать себе дорогие костюмы, но сменился хотя бы сам тон его гардероба: тускло-бурое и серое уступило место цветам поярче; вместо устаревшего стиля – образ чуть крикливее, щеголеватее. Брюки в клетку, белые полуботинки, желтые водолазки, высокие ботинки с крупными пряжками. Но, несмотря на все эти усилия, в таких костюмах он никогда не выглядел в своей тарелке. Они не стали неотъемлемой частью его личности. На ум приходил маленький мальчик, которого нарядили родители.
* * *С учетом его причудливых отношений с деньгами (желание богатства, неспособность тратить) как-то уместно было, что жизнь свою он устраивал среди бедноты. В сравнении с ними он владел несметным достоянием. Однако, проводя свои дни среди людей, у которых не было, считайте, ничего, он мог не упускать из виду, чего он больше всего на свете боялся: оказаться без денег. Так для него все вставало на места. Он считал себя не прижимистым, но – разумным, человеком, знающим цену доллара. Следовало быть настороже. Только это и стояло между ним и кошмаром нищеты.
Когда дела у них шли лучше некуда, они с братьями владели почти сотней зданий. Их территорией был угрюмый промышленный район на севере Нью-Джёрзи – Джёрзи-Сити, Ньюарк, – и почти все их жильцы были черными. Таких называют «трущобовладельцами», но в его случае определение неточно и несправедливо. Да и «отсутствующим домовладельцем» он никак не был. Он там был, проводил на месте столько часов, что даже самый сознательный работник устроил бы забастовку.
Работа его была нескончаемым жонглированием. Покупка и продажа домов, покупка и ремонт оборудования, управление несколькими бригадами ремонтников, сдача квартир, надзор за домоуправами, выслушивание жалоб жильцов, прием строительных инспекций, постоянное общение с водяными и электрическими компаниями, не говоря уже о частых посещениях суда – и истцом, и ответчиком: возбуждать иски по задолженностям квартплаты, отвечать за нарушения. Все вечно происходило одновременно, шла нескончаемая атака по всем фронтам, с таким под силу справиться лишь человеку, который ко всему относится философски. Все требуемое в любой данный день сделать было невозможно. Домой приезжаешь не потому, что все закончил, а просто потому, что уже поздно, и не хватило времени. Назавтра будут поджидать те же проблемы и несколько новых в придачу. Это никогда не прекращалось. За пятнадцать лет он был в отпуске всего два раза.