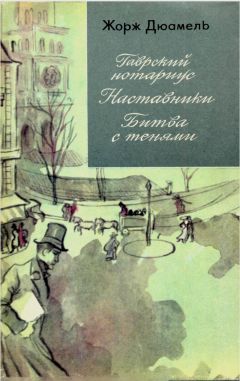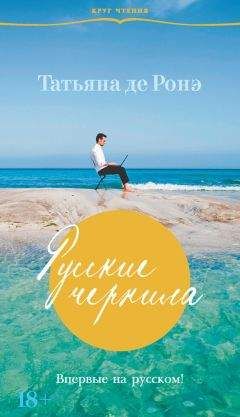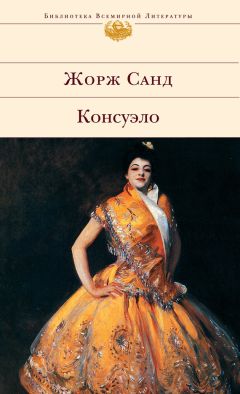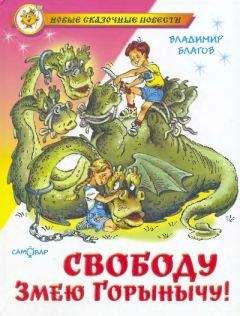Жорж Дюамель - Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье
— Ничего. Я подожду,
Пьер-Этьен Лармина прибыл несколько минут спустя. Он увидел Лорана и еле скрыл раздражение.
— Господин директор, мне надо поговорить с вами, — сказал Лоран спокойным, церемонным тоном.
Старик постарался было найти лазейку, чтобы уклониться. Не найдя ее, он сказал, пожав плечами:
— Что ж, господин Паскье, входите.
Лармина направился в свой кабинет; Лоран, войдя вслед за директором, тщательно затворил двойную дверь. Минуты две-три спустя молодой человек появился в приемной, еле заметно кивнул служителю, которого знал давным-давно, и вышел из Института. У подъезда он остановил такси, назвал адрес г-на Шартрена и стал напевать мелодию из партиты до минор Иоганна Себастьяна Баха — мелодию, преисполненную безмятежной ясности.
Господин Шартрен был дома, весь поглощенный укладыванием чемоданов. Он встретил Лорана весьма сердечно и повел его в гостиную, почтенная мебель которой уже скрылась под холщовыми чехлами.
— Благоразумнее было бы остаться в городе, — молвил старый ученый, — подождать событий, узнать, что предпримет Германия.
Лоран встрепенулся. Германия? Ах да! Г-н Шартрен имеет в виду то, что называют международной напряженностью... Лоран сел на диван. От скатанных и перевязанных ковров веяло нафталином. Шторы были уже опущены. В полоске солнечного света плясали пылинки, поднятые хозяйственной суматохой. Добрый г-н Шартрен сел в кресло напротив Лорана.
— А теперь потолкуем о вас, ибо я для этого главным образом вас и пригласил. Как вы знаете, в отношении вас намечается поворот в вашу пользу. Дастр, Рише, Ляпик решили, так же как и я, потребовать расследования. Пусть это слово не пугает вас...
— Неужели вы думаете, профессор, что что-либо еще может напугать меня...
— Речь идет не об обследовании вашей деятельности, а о той обстановке, в какой хотят заставить вас подать в отставку. Шарль Николь, хорошо знающий вас, обратился к министру с письмом, в котором защищает вас и одобряет все написанное вами. Господин Ру, Габриель Бертран и еще кое-кто говорят повсюду, что вы — жертва несправедливости, что все это — подлость и ничего подобного не могло бы случиться ни в одном почтенном учреждении, как, например, Институт Пастера.
— Профессор, я не сомневаюсь в этом, однако...
— К несчастью, друг мой, большинство тех, кто любит вас, разъехалось на каникулы либо отвлечено политическими волнениями, что вполне естественно. Поэтому мы полагаем, что для вас лучше было бы явиться на дисциплинарный суд. Среди его членов, по крайней мере, двое будут на вашей стороне. А остальным мы напишем.
— Профессор, — ответил молодой человек, — не нахожу слов, чтобы выразить, насколько я тронут. Однако...
— Друг мой, не противьтесь, не поддавайтесь дурному настроению.
— Дело в том, профессор, что теперь уже поздно.
— Поздно? Почему? Не понимаю.
— Я уже подал в отставку.
— Когда?
— Четверть часа тому назад.
— Как вы подали в отставку? Письменно? Кому?
— Устно. Директору Института.
— Господину Лармина?
— Господину Лармина.
— С господином Лармина у меня отношения неважные, однако можно еще уладить дело.
— Нет, профессор. Это невозможно.
— Но почему же невозможно?
Старик взволнованно Потирал руки. Он тоскливо смотрел на Лорана, а тот наивно улыбнулся и прошептал:
— Профессор, я сказал господину Лармина, что он подлец.
Господин Шартрен слегка вздрогнул и отшатнулся.
— Черт возьми, — молвил он. — Дело принимает серьезный оборот.
— И даже... — продолжал Лоран.
— Как? Это еще не все? Что вы ему еще сказали?
— Я ему больше ничего не сказал, я просто...
— Что просто?
— Я плюнул ему в лицо.
Профессор воздел руки, как бы призывая на помощь силы небесные. Он лепетал:
— Ну, это уж слишком, это уж зря! В лицо! Это нечто неслыханное, этого и представить себе невозможно. Вы, молодой человек, такой спокойный и, главное, отлично воспитанный! Черт возьми! Но, надеюсь, это все?
Лоран встал с места; он очень покраснел, но был по-прежнему спокоен. Он ответил тихим, но поистине жутким голосом:
— Мне хотелось его задушить. Я все-таки этого не сделал. Так противна была мне мысль, что придется прикоснуться к нему.
— Замолчите! Замолчите, несчастный друг мой. Вы еще не в себе. Ну вот, меня зовут. Все насчет чемоданов. Никому ни слова о том, в чем вы сейчас признались. Вас, бедняга Паскье, примут за сумасшедшего. А вы только вне себя от гнева. Через два-три месяца мы с вами все это опять обсудим. Умы утихомирятся. Лишь бы события не перевернули все вверх дном. Ведь дела-то, знаете, совсем плохи. Итак, до свиданья, Паскье. И успокойтесь! Успокойтесь.
Спускаясь по лестнице, Лоран опять улыбнулся. «Мне успокоиться? — думал о н . — Вот еще! Я и так спокоен, как никогда».
На улице он увидел киоск, со всех сторон увешанный газетами. В то утро он по понятным причинам еще не успел просмотреть газет. Мимоходом он взглянул на те, что были выставлены, и сразу остановился. «Народный вестник» выделялся крупным заголовком: РЕЧЬ ИАСЕНТА БЕЛЛЕКА. АГОНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА».
Лоран подумал, что в речи должно быть кое-что сказано и по его адресу, что Беллек, долго молчавший, решил наконец высказаться. Лоран купил газету и сел на скамейку, чтобы прочесть ее.
Догадка его оправдалась. Социалистический вожак, распространившись о политической обстановке в Европе, рисовал картину буржуазной Франции, разглагольствовал о процессе г-жи Кайо, потом обращался к тому, что в его газете с недавней поры стали именовать «предательством интеллигенции». Под конец он обращался к истории молодого ученого, который, под влиянием безумного, а быть может, и преступного тщеславия, забыл, по-видимому, что наука — не привилегия одного класса, а достояние широких масс.
Лоран сложил газету и спрятал ее в карман. По носу его сбегали капельки пота. Он косился, следя за их движением. Он встал, судорожно сжал руки и сказал вслух: «Мне не остается ничего другого, как отправиться домой».
Он находился тогда на бульваре Сен-Жермен. Выбирая переулки потемнее, он стал взбираться на холм Сент-Женевьев; в руках он держал шляпу и широким жестом обмахивался ею. Вот и лестница его дома, вот и квартира, погруженная в тишину. Тут он взял лист бумаги, решительно окунул перо в чернильницу и, подумав, начал писать:
«Дорогая Жаклина, бесценная, друг мой, любовь моя! Вы как-то весной сказали мне, что восхищаетесь своим отцом и что никогда в жизни не позволите себе критиковать его суждения. Ваш отец сегодня публично высказался обо мне и даже, вслед за многими другими, решительно осудил меня.
Дорогая Лина, сегодня утром я подал в отставку: я уже не заведующий отделением в Биологическом институте. Карьера моя кончилась. Работа, которую я люблю, станет для меня теперь недоступной. Я человек очень бедный. У меня уже почти не осталось друзей. Врагам моим несть числа. А я все еще как следует не понимаю причин моих бедствий.
Я много раз просил Вас соединить наши судьбы. Еще вчера я надеялся, что Вы наконец согласитесь, ибо, как Вы сами говорили, не чувствуете ко мне неприязни. Но теперь, милая Лина, мне уже нечего предложить Вам,
кроме истерзанного сердца и имени, носить которое нелегко. Вы заслуживаете, милая Жаклина, гораздо лучшего».
Лоран положил перо на стол и глубоко задумался.
Утро подходило к концу, со всех сторон доносился бой башенных часов, бивших двенадцать. Лоран очнулся от своих дум, услышав шаги на лестнице; потом входная дверь слегка дрогнула, словно кто-то оперся на нее плечом. Затем снова стало совсем тихо.
Лоран на цыпочках прошел в крошечную переднюю, куда выходили двери спальни и кабинета; сердце его сжималось от упоительной тревоги и тоски. В доме стояла глубокая тишина. И вдруг Лоран ясно услышал даже не дыхание, а как бы глухое и ритмическое биение сердца.
Он тихо-тихо приоткрыл дверь.
На площадке, в тени, стояла Жаклина. Она сразу же вошла. Она неловкими, угловатыми движениями стала снимать перчатки; сняла широкую золотистую соломенную шляпу, наполовину закрывавшую ее лицо. Она не поднимала взора и лепетала быстро, дрожащими губами:
— Если хотите, чтобы я вышла за вас — я согласна, согласна. И даже сама прошу об этом. И я все утро всюду разыскиваю вас, чтобы сказать, что согласна.
Лоран неистово, обеими руками обнял девушку. И буря, которую он несколько месяцев сдерживал силою воли, вдруг разразилась в детских рыданиях, в страшных судорогах, в долгих стенаниях, разрывавших ему сердце. Сквозь слезы он говорил: «Простите меня! Простите меня! Я не могу не плакать, не могу не кричать. Пусть все это вырвется у меня, пусть я от этого освобожусь. После все наладится. Нет, нет, тут не горе. Никогда еще не был я так счастлив, так полон сил!»