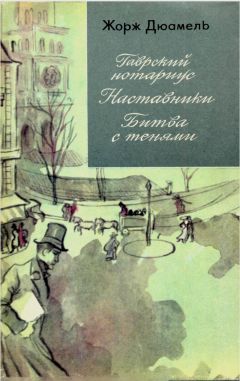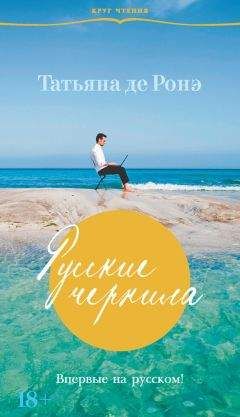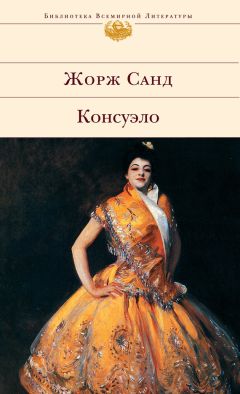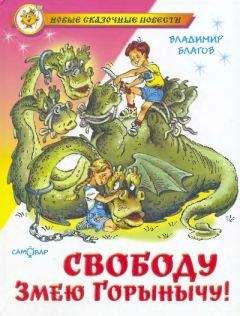Жорж Дюамель - Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье
В тот же день к Лорану в лабораторию явился посетитель. То был маленький человечек, желтокожий, черноволосый. Он говорил по-французски бойко, но с ужасным акцентом. Едва войдя, он предупредил:
— Я не журналист.
Лоран кивнул головой, а посетитель добавил:
— Я интересуюсь науками. Как и все, я слежу за кампанией, которую вы ведете относительно лабораторий. На вас ожесточенно нападают...
Лоран опять уклончиво кивнул.
— «Рыжая лягушка» — газета, которой распоряжаются бессовестные люди. Нет, нет, я с ними незнаком. Но мне известно, что нетрудно заткнуть им рот.
Посетитель умолк, прищурил правый глаз и прошептал, хитро улыбаясь:
— Говорят, это обходится не так уж дорого.
Лоран встал, пересек комнату, настежь распахнул дверь и жестом предложил человечку убраться, тот молча удалился.
Стояло жаркое лето. Но Лоран не ощущал зноя. Над насторожившейся Европой стали проноситься тревожные дуновения. Лоран не чувствовал приближения грозы. Он видел только свои собственные горести, свой ураган. Иной раз он сжимал руками голову и стонал, обращаясь к самому себе: «Я больше не могу работать. Я больше ничего не знаю. Я уже никогда ни на что не буду годен. Эти люди окончательно сведут меня с ума».
Он решил сделать еще одну попытку повидаться с Лармина. «Я поговорю с ним откровенно. Надо выяснить все до конца». Директор по-прежнему никого не принимал. Он ответил Лорану краткой «служебной запиской», в которой говорилось, что «господина Паскье просят не добиваться, без особой надобности, приема у директора и что для поддержания связи с различными отделами Института вполне достаточно письменных обращений».
Вечерами, после душного дня, Лоран заходил на часок к матери. Она приказывала служанке поставить еще один прибор и почти тотчас же погружалась в оцепенение, из которого порою выходила, чтобы сказать что-нибудь если и не бессвязное, так, во всяком случае, неожиданное, ибо трудно было понять, какими кружными путями дошла она до таких мыслей. Однажды она нарушила свою мрачную задумчивость, с каким-то недоумением взглянула на Лорана и прошептала:
— Ты здесь! Да, ты в самом деле здесь, Лоран!
И тотчас же повторила жалобу, которая уже почти двадцать лет неизменно вырывалась у нее:
— Мне кажется, что ты уже совсем разлюбил своего отца. До чего мне было бы грустно, если бы это оказалось правдой!
Лоран отвернулся, чтобы скрыть раздражение. Он думал: «И тут ложь! Даже мама начинает лгать. Знаю, что она говорит так, чтобы любой ценой спасти то, что является для нее смыслом жизни, незыблемой верой, чтобы спасти свою несчастную семью. Что же, тем хуже! Тем хуже! Я отвергаю эту ложь».
Он резко ответил:
— Однако же нам все известно.
Это было неопределенно и почти что грубо. На лице старухи вдруг появилось испуганное выражение. Она прошептала совсем тихо, умоляющим голосом:
— Зачем ты так говоришь? Нет, нам ничего не известно.
Лоран пожал плечами и решил не возражать. Он думал: «Если я буду настаивать, я поступлю дурно. Нет, нет, ложь — владычица. Ее надо уважать».
Он замолчал. Немного погодя он опять подумал: «Что означает это молчание? Возвышенное милосердие? Любовь? Или просто-напросто гордость? Ну вот, я начинаю кощунствовать. Но как же так? Она ни словом не обмолвилась о моих личных невзгодах. Быть может, она ничего не знает? Быть может, она стала совсем бесчувственной от горя?»
В тот вечер, в долгие летние сумерки, возвращаясь домой вдоль домов, от которых еще веяло теплом, Лоран в свете фонаря заметил знакомое лицо. Встречный, еще молодой человек с открытым, доверчивым лицом, тотчас же воскликнул: «Паскье!»
То был давний приятель, которого Лоран потерял из виду уже лет десять тому назад, один из тех мимолетных спутников жизни, с которыми охотно переходишь на «ты», хоть и не знаешь твердо их имена.
Они поболтали несколько минут, потом молодой человек сказал радостно и почти что благоговейно:
— Что же, чудесно! Сейчас весь Париж говорит о тебе.
Лоран пожал плечами.
— По-моему, это скорее прискорбно, если принять во внимание, что именно говорят.
Приятель покачал головой. Он запнулся, потом добавил с грустной усмешкой:
— Ничего! Как-никак, а говорят. Вот мне никогда не удавалось обратить на себя внимание.
Лоран пожал его пухлую руку и продолжал путь. Возможно ли, чтобы горькая чаша, которую ему приходится волей-неволей пить, имела для кого-то пьянящий вкус славы? Оказывается, вполне возможно.
Нередко, возвратившись в свою поднебесную квартиру, Лоран принимался писать Жаклине длинные горестные письма, чтобы заполнить чем-то первые ночные часы. В те дни у нее было очень много работы. На другой день она все же забегала невзначай, выкраивая время между делами; она заставала Лорана дома, в лаборатории или в ресторане, долго, внимательно и проникновенно всматривалась в его лицо и гладила его лоб своими удивительно прохладными ручками.
Бывали у него и другие посетители, в том числе, почти ежедневно, Рок. Странный малый, как ни обижал его Лоран, все возвращался. Казалось, к вечеру он забывал об утренней встрепке. Он начинал ровным, мягким голосом сообщать новости. Он говорил:
— Насчет Шартрена не беспокойся. Он раньше августа не уедет из Парижа. Он занимается твоим делом. К тебе он искренне расположен. Вдобавок он ненавидит Лармина. Этим все сказано. Однако...
— Что однако?
— Однако весь этот шум, эти статьи, все эти газетные подлости немного пугают папашу Шартрена. Он сразу пасует при мысли, что имя его, да еще с какой-нибудь бранью, может появиться в газете. Страх вполне понятный. А что касается Дебара...
Эжен Рок остановился, два-три раза пытаясь закурить туго набитую табаком папиросу. Лоран в отчаянии наблюдал за ним.
— Так что же? Что тебе известно о Дебаре?
— Мне ничего неизвестно. То есть известно, что Де-бар — порядочный малый. При обычных обстоятельствах у него, пожалуй, достало бы смелости. К несчастью...
— К несчастью, обстоятельства не обычные; это ты имеешь в виду?
Рок отрицательно покачал головой,
— Дебар ждет ордена, — отвечал он. — На сей раз он непременно получит его летом, когда объявят списки. А пока что ему благоразумнее не рыпаться. Если бы дело разгорелось в октябре, Дебар наверняка был бы за тебя, Но, согласись, бросаться в драку в этот момент — для него просто гибельно. Это означало бы, что два-три года работы пропали зря.
— Это не имеет никакого отношения к его работе.
— Имеет! Я хочу сказать, что о пресловутом ордене он два-три года хлопотал в министерствах.
В промежутках между этими отрывочными фразами Рок вновь принимался за свой окурок. Лоран думал: «Я одинок!.. Одинок! Я барахтаюсь, как муха в паутине. Кто помогает мне? Решительно никто!»
Приятное опровержение таких мыслей он получил однажды в письме из Нанта. Ценою долгих стараний и всяческих уловок Жюстену удалось напечатать в «Пробуждении» превосходную статью. Он прислал ее, сопроводив краткой запиской. Он пояснял, что партийная дисциплина и этика заставили его исключить значительную часть текста — самую горячую, самую решительную. Но и то, что осталось, было очень хорошо, очень благородно, очень смело. Статья называлась «Призыв к справедливости», и «маленький Вейль», как его называли в окружении Лорана, заканчивал ее, как и следовало ожидать, словами: «Надо предоставить господину Паскье, честному служителю науки, спокойно работать по-прежнему. Франция не может позволить себе такую роскошь, как новое дело Дрейфуса».
Лоран с наслаждением читал и перечитывал написанное его любимым другом. К сожалению, никто в Париже, вероятно, не выписывает «Пробуждение». Копье попадет в пустоту.
На другой день на первой странице «Схватки» появилось подписанное каким-то неизвестным именем «Открытое письмо Канцлеру ордена Почетного легиона». Автор письма требовал, чтобы была пресечена «подозрительная деятельность господина Паскье» и чтобы он был лишен ордена, полученного, кстати говоря, при весьма темных обстоятельствах...
В тот день, выходя из Дворца Правосудия, где он надеялся застать знакомого адвоката, чтобы просить его о помощи, Лоран случайно оказался на паперти собора Нотр-Дам. Стояла влажная жара, жара, доводящая мух до безрассудной смелости и остервенения. Лоран жаждал тени, жаждал прохлады. Он рассеянно толкнул дверь храма.
Огромный неф был пуст. Сквозь витражи светило вечернее солнце, но в приделах царила поистине безмятежная, умиротворяющая тень. Лоран сел на стул, как бедняк, опустив руки между колен. Скромные причетники ходили от часовни к часовне, добавляли масла в лампады, зажигали или тушили свечи, благоухание которых сливалось вокруг с запахом древних стен. Великий покой овладевал умом молодого человека. Вдруг он подумал с горечью и даже с досадой: «Многих влечет сюда, когда им тяжело. И они уходят, чувствуя облегчение. А я уйду все таким же удрученным. Это несправедливо! Несправедливо!»