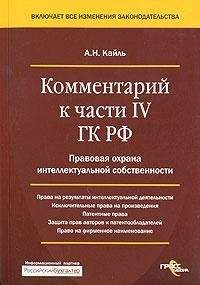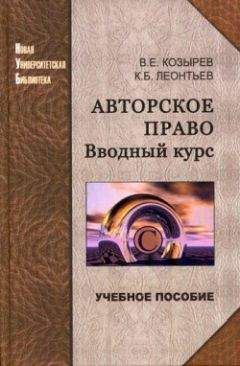Александр Янов - Россия и Европа-т.3
Я как-то подсчитал, что если принять грубо число минут в сорока годах за 20 миллионов, а число стран в тогдашнем мире за 150, то окажется, если Солженицын прав, что каждая из них была уже «угрызена» и даже «внове перемолота зубами» коммунистов, по крайней мере, 133 тысячи 333 раза. Удивительно здесь, однако, не эта смехотворная в устах профессионального математика арифметическая абракадабра. Удивительна бесшабашность его обвинений. Откуда в самом деле эта высокомерная уверенность, что истина одна и она у него в кармане? Откуда этот пророческий зуд - в современном мире, о сложностях которого он, выходец из средневековой резервации, не имел ни малейшего представления?
Ну чего, собственно, хотел Солженицын от Запада? Превращения в беспощадную военную машину, подобную своему тоталитарному антагонисту, которая «угрызала» бы и перемалывала мир антикоммунистическими «зубами»? Но ведь для этого понадобилось бы пожертвовать той самой свободой, ради которой и воевал Запад с тоталитаризмом.
Так стоит ли недоумевать, почему во мгновение ока растранжирил Солженицын весь громадный героический капитал, с которым прибыл в Америку? Что местные интеллектуалы тотчас же и перестали принимать его всерьез? А ведь умный же вроде бы человек, планировщик по натуре, скрупулезно рассчитывающий наперед, судя по его автобиографической книге, каждый шаг, слово и жест. И так оскандалился. Почему?
Но кроме всех этих увлекательных загадок, которые имеют все-таки отношение к прошлому, перед нами ведь и еще одна, главная загадка, касающаяся будущего. Нашего будущего. Четырежды на протяжении двух последних столетий представляла России история возможность «присоединиться к человечеству», говоря словами Чаадаева42. В первый раз в 1825 году, когда силой попытались это сделать декабристы. Во второй - между 1855 и 1863 годами, в эпоху Великой реформы, когда ничто, казалось, не мешало сделать это по-доброму, в третий - между 1906 и 1914 годами, когда Витте и Столыпин положили как будто бы начало новой Великой реформе, так жестоко и бессмысленно прерванной мировой войной, до которой России и дела-то никакого не было. И, в четвертый, наконец, в 1991-м, когда рухнули её империя и сверхдержавность. Три шанса из четырёх, по разным, как мы еще увидим, причинам были безнадежно, бездарно загублены. Судя потому, что и сегодня «время славянофильствует», пятого может и не быть.
Столетие назад, соглашаясь после революции пятого года возглавить правительство, Петр Столыпин потребовал: «Дайте мне двадцать
Приводя здесь слова Чаадаева, я, естественно, далек от мысли, что человечество ограничивается Европой. Просто отношения с нею имели для России на протяжении столетий особое значение, о чем, собственно, и говорит Чаадаев.
лет мира и я реформирую Россию». Но ведь не дала их реформатору русская культурная элита. Еще прежде того, наблюдая бушевавшее вокруг него «национальное самообожание», предвидел Соловьев, что не даст. Так и случилось. Отдали страну бесам.
Столетие спустя, когда„как говорит в книге «Агония Русской идеи» американский историк Тим МакДаниел, «история коллапса царского режима опять стала историей наших дней»43, пришло для нас время вспомнить ужас Соловьева, продиктовавший ему его прозрение. Ибо если в великом споре между декабристским патриотизмом и евразийским особнячеством опять победит особнячество, Россия снова будет отдана бесам - на этот раз национал-патриотическим.
Я ведь не случайно начал эту вводную главу со знакомства с монументальной и трагической фигурой Владимира Соловьева. В момент, когда страна снова на роковом распутье, пробил, я думаю, час для культурной элиты России взглянуть на судьбы отечества глазами великих предшественников, глазами декабристов, Чаадаева и продолжавшего их патриотическую традицию Соловьева.
Ибо именно этого масштаба, этого контекста, этой исторической ретроспективы прошлых эпохальных поражений и недостает нам сегодня, чтобы избежать еще одного, быть может, последнего. Без них и спорим мы не о том, и воюем не за то. И не ведаем, что всё это Россия уже проходила. Представления не имеем о том, как губили ее националисты, прикинувшиеся патриотами И как погубили.
Именно поэтому попытаюсь я здесь показать, как случилось, что мировая историография пошла по ложному следу, проложенному для неё Достоевским, напрочь игнорируя гениальное прозрение Соловьева. Несмотря даже на то, что только это прозрение (вместе с гипотезой Грамши) может помочь нам расчистить гигантские завалы, накопившиеся за целое столетие на пути к пониманию Катастрофы, высвечивая для нас действительных её виновников. Завершись история русского национализма в 1917-м, оставалось бы мне здесь лишь
McDaniel Tim. 7he Agony of the Russian Idea. Princeton Univ. Press, 1996. P. 52.
облечь соловьевскую формулу живой исторической плотью, лишь показать, почему оправдалось его страшное предчувствие.
К сожалению, однако, последствия академической путаницы оказались отнюдь не только академическими. Свалив всю вину за Катастрофу на «красных» бесов, дала эта путаница возможность уйти от ответственности демонам национализма. Уже в 1921 году группа молодых интеллектуалов-эмигрантов, назвавших себя евразийцами, начала работу по его реабилитации. Евразийцы были ревизионистами славянофильства, наследниками, как увидим мы в этой книге, скорее, идеологов реванша Данилевского и Леонтьева, нежели национал-либералов Хомякова и Аксакова. И уже поэтому вызвали на себя огонь как со стороны правоверных националистов, подобных популярному сейчас Ивану Ильину, так и со стороны «национально ориентированных» (теперьуже в эмиграции) интеллигентов, подобных Петру Струве и Николаю Бердяеву. В результате великий спор о причинах Катастрофы, о том, кто виноват в величайшем злодеянии века, в том, что три поколения россиян оказались обречены на жизнь в имперской резервации, был подменён спором между разновидностями его виновников, сваливших всю вину за него на «красных» бесов. Вот же почему так и остались действительные причины Катастрофы неразгаданными.
В конце 1960-х, тотчас после поражения хрущевской реформы, центр спора переместился в советскую Москву и с той поры драма патриотизма, описанная в этой книге, начала вдруг роковым образом повторяться на подмостках XX века. Сперва, как в 1840-е, безобидные диссидентские кружки, опять проповедовавшие «мессианское величие России» и её «богоизбранность», заново забросили в общественное сознание славянофильскую уверенность, что успешно сопротивляться диктатуре (на этот раз, конечно, не николаевской, а коммунистической) страна может, лишь возродив Русскую идею.
И точно так же, как в 1850-е, полиция и цензура преследовали бедных националистических диссидентов. И точно так же, как Константин Аксаков царю, писал советским лидерам пламенные эпистолы об этом предмете Солженицын. И точно так же, наконец, ни к чему это не вело, покуда не рухнула, как после Крымской войны, возродившаяся при Сталине (и обреченная, разумеется, на туже судьбу, что и николаевская) сверхдержавность России. Только на этот раз пришлось расплачиваться за нее и крушением империи.
И точно так же, как в 1870-е, возобновила Русская идея свою борьбу за идейную гегемонию в постсоветском обществе после 1991-го, когда хлынул в Россию поток эмигрантской славянофиль- ско-евразийской литературы, сообщив вчерашнему националистическому диссидентству гигантский интеллектуальный импульс. И мотивы, её поначалу вдохновлявшие, ничем, собственно, не отличались от славянофильских. Опять вышли на первый план николаевский постулат «Россия не Европа» и фантомный наполеоновский комплекс - мучительная ностальгия по внезапно утраченной сверхдержавности (к которой на этот раз, естественно, добавилась тоска по империи).
Первыми жертвами нового «гегемона» пали, как и следовало ожидать, вчерашние «красные» бесы, составившие ядро непримиримой оппозиции режиму. Эти, впрочем, не задержались на ступени национал-либерализма, сходу скатившись к «бешеной» пропаганде реванша (что и отрезало их от большинства культурной элиты). Ей-то предстояло спуститься по лестнице Соловьева, как он и предсказывал, ступень за ступенью - начиная с «национального самодовольства». Лишь когда сама эта элита усомнилась в основах собственного европеизма, лишь когда зазвучали из её недр «национально ориентированные» речи, словно бы списанные с тех, против которых восстал в 1880-е Соловьев, зазвучали причем и снизу и сверху, опасность нового - и тотального - заражения страны сверхдержавным реваншем стала очевидной.
Вот тесты, если угодно. Послушайте, против каких деклараций возражал в своё время мой наставник: «Русскому народу вверены словеса Божии. Он носитель и хранитель истинного христианства. У него вера истинная, у него сама истина...»44. Или другая: «верноподданническая присяга есть единственная гарантия общественных прав, а внимание высших государственных сфер к голосу правовер-